И вновь он все видел и чувствовал, словно и не терял сознание и не блуждал мыслями своими вдалеке от себя самого, — и видел, быть может, еще более четко, чем прежде, и чувствовал, быть может, еще острей; и кинолента в прояснившемся внезапно воображении повторялась вновь и вновь — давно начавшийся фильм, у которого не было ни четкого начала, ни конца — длинная вереница томительно-серых видов; он опять увидел себя возвращающимся с фабрики — в тот вечер; он шел, и Сонаты не было; не было ни Ийи, ни Даубараса, ни Грикштаса — никого; лишь он и Старик, загородивший дорогу к реке; на Старике была красная рубашка лавочника Райлы, он поджидал в дальнем закоулке Крантялиса, где за высоким дощатым забором виднелась глинобитная лачуга с высокой белой трубой, из которой, однако, никогда не валил дым; Райла растопырил руки, между которыми с трудом размещалась широченная седая борода; волосы спутанными космами падали на уши, на шею и плечи, как у всех злодеев в страшных сказках, а рубаха — линялая, некогда красная — неряшливо нависала над заскорузлыми, скрученными, как старая, ссохшаяся береста, штанами; Ауримас кинулся прочь. Но Райла был проворнее и ухватил его за шиворот; пальцы впились в кожу; Ауримас завизжал, съежился. Когда, когда? — зашипел Старик, тыча ему в лицо засаленную книжицу; когда? Не знаю, не знаю, — отвечал Ауримас, корчась от боли; пустите меня! Не знаешь? А кто же тогда знает? — точно клещами, сжимал ему Райла затылок, этот Старик в красной линялой рубахе; неужто сам господь бог? Или господин судебный пристав? Не знаю, лепетал Ауримас, сопя от боли; отпусти, пусти меня… Пустить? Тебя-то? Ну не-ет, — он тыкал его носом в книжку, точно нашкодившего котенка; пусть мамка придет… Она не придет. Не придет? Скажи: Райла велел… скажи: колотье в спине… банки… Скажи: дам хлеба, селедки, керосина, соли… скажи… Не придет она, повторил Ауримас и словно обрадовался, что может смело бросить это ему в лицо; не придет? Моя мамка никогда больше не придет к тебе… Никогда? Никогда… отпустишь не отпустишь — все равно не придет… и никаких тебе вонючих банок… Ого!.. Мал ты еще, сопляк, о больших делах… Мал? Ну, не так чтобы очень. Она умерла. Умерла? Это ты брось… Говорю вам: мама умерла… а бабушка… Умерла? Господи-боженька, померла Глуосниха! Померла, чернявенькая! А долг мне — кто? Кто? Кто? Кто? А-а-а… Он так громко застонал, этот огромный бородач, что Ауримас не сразу сообразил, как ему быть, а когда спохватился, то сильным рывком высвободился из железных лапищ, молнией метнулся в сторону: вскинулся песок. Погоди! Куда? Куда? Куда? Куда? — закричал Райла таким жутким голосом, словно это его самого цапнули за шиворот и безжалостно душат — точно так же, как он сам душил Ауримаса; стой! Померла Глуосниха, но ты-то жив! Ты жив — тебе и платить! Раз жив, то плати… жив… Но Ауримаса и след простыл, не было его больше там, где изгородь забредает прямо в реку, где тянется ввысь чистейшей белизны труба, из которой не идет дым, и где, раскорячив на песке крупные белые ноги, стоял бородатый лавочник Райла; старик Райла; задыхаясь, хрипя, как затравленный пес, летел Ауримас к «имению» Глуоснисов, откуда лишь накануне, под протяжные причитания плакальщиц, люди вынесли желтый легкий гроб; всем телом ударился о дверь, кинулся к бабке и уткнулся лицом ей в колени. О, это были совсем другие колени — жесткие, широкие, острыми кремнями торчащие под грубой дерюгой юбки; и пальцы, которые гладили его по лицу, были совсем другие — костлявые, холодные пальцы; он быстро поднялся с пола, шмыгнул к себе в каморку и там рукавом отер слезы — —
Но перед его глазами по-прежнему стоял все тот же Старик с бородой во всю грудь, широченной бородой, похожей на куст, в красной, неряшливо свисающей над штанами рубахе; с хищным захватом рук, пальцами-крючьями, готовыми в любой миг вцепиться, утащить, смять; он преследовал Ауримаса изо дня в день, крался за ним по пятам на фабрику и обратно — домой, хоть лавку Райлы Ауримас обходил за версту; иногда он являлся ночью. Старик подбирался тихо, не скрипнув дверью, останавливался в изножье кровати и без слов глядел на спящего Ауримаса (глаза отливали холодным лунным блеском): смотрел настырно, подкрадывался ближе и медленно тянулся к нему крупными белыми руками; пальцы вспыхивали как свечи; когда эти пальцы дотрагивались до шеи, Ауримас вскрикивал, и Старик исчезал; шея делалась мокрой. Потом Старик исчез окончательно — тот красный, с дикой бородой, и вместо него появился другой — без бороды и в пижаме, лысый, морщинистый и, возможно, не такой злой; он лежал на широком зеленом диване в дальнем углу большой, заваленной книгами комнаты, в закутке за книжными полками, и нестерпимо храпел, пугая теснившихся за окном голубей; птицы запрокидывали головки и слушали — удивленные, как и Ауримас; так, должно быть, хрипят перед смертью; а девушка, белая девушка с белыми волосами, в белом платье, по которому сеялись мелкие голубые крапинки, девушка, которая в замешательстве смотрела на него, пятнадцатилетнего парнишку с охапкой паркетных планок, — то не была Соната — —
Читать дальше
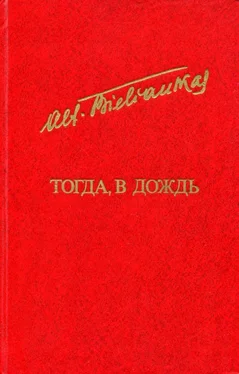



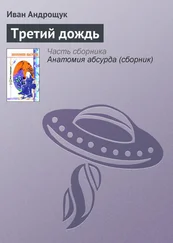



![Альфонсас Беляускас - Спокойные времена [Ramūs laikai]](/books/414753/alfonsas-belyauskas-spokojnye-vremena-ramus-laika-thumb.webp)
![Надежда Мосеева - Я хочу увидеть дождь [СИ]](/books/415538/nadezhda-moseeva-ya-hochu-uvidet-dozhd-si-thumb.webp)