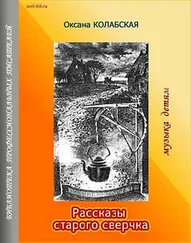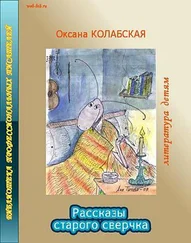Во второй раз ринулись полки отчаянные на погибель друг друга. И была битва, крепче прежней. Сам писарь принял ее, сражаясь стойко с пером и бумагою. И уже почти сотворил победу над изворотливыми знаками, принудив их к строгости и смирению, но окурат в разгар победы славной брызнула из глаз инока жалость к тому последнему воину и растеклась слезами по письменам. Бумага покоробилась сильно, и буквы слезли с нее, чем вконец прогневали настоятеля.
Суров был игумен и не прощал непослушания. Корил он Даниила на чем свет стоит, стращал судом Господним. Даниил старался, боролся с собой, работал дни и ночи, прилагая недюжее усердие, но как доходил до означенного места, слезы текли из глазниц, точно из дыр непокрытых, и перо дрожало в руке, дырявя бумагу. Слезами пятнал инок славу лучшего монаршего переписчика. И знал он нынче одни лишь неудовольствия духовных отцов, доходящие порой до проклятия. Однако и игумен не терял надежду образумить сбившегося с пути монаха, заставляя его переписывать и переписывать текст нескончаемо.
А Даниил только и ждал того, чтобы вновь насладиться пленом сражения. Сызнова выводил он рать в чистое белое поле и вещал им слова, Святославом реченные: «Мертвые срама не имут», предлагая скрепить оные кровью поганых и повторить подвиг великий. Хотя воины его и так уж были мертвы, а потому послушно вставали в урочный день стройными полками и подчинялись во всем рукам книжным. Но и писаря обратно плакать заставляли. Аж до самого сердца добирались. Ныло оно легонько в час наибольшего напряжения, словно кто-то покалывал изнутри его твердь гусиным перышком. И по телу Даниила тотчас проходил озноб.
В Бога веровать он стал крепче прежнего. Молился и уповал на Него пред тем, как возобновить писание. Не за себя молился – за сторожей града Сумерина, незнамо где находящегося и находящегося ли поныне. И всякий раз добивал Всевышний всех до последнего, да и тому последнему спасения не даровал, а токмо печаль жгучую. Но ежели Господь не помогал ему, старался Даниил, шепча, как заговоренный, молитву свою: «Мертвые срама не имут», уговаривал, утешал и его, и себя, и Господа Бога.
С малых лет желал инок обрести в книгах мудрость и воздержание. Воздерживаясь от мирских забав, богатства и славы, ждал он мудрости, как награды, искал ее, затаенную меж строк. Теперь же, запершись в книжном затворе и не усомнившись ни на миг в истинности веры, не мог он отказать себе в удовольствии проронить слезу над волнительным местом, сотканном из чернил и бумаги. Невзирая на опалу игумена и присных его. Дородный игумен, будучи человеком твердым и неотступным, осерчал на него несказанно, сочтя Даниловы «поспешность и небрежение к письму и особливо порчу ценной бумаги» за личное оскорбление. «Безбожный инок позор навлекает на монастырь наш, а иже с ним на род славный, славянский», – любил теперь говаривать игумен и собирался рядить неверного всем миром духовным Святоегорьевским, однако ж в окончательном решении покуда колебался.
А Даниил хотел, да не в силах был уважить наставников грозных, потому как погряз целиком в делах ратных. Стали ему чудится в монастырских бойницах вражьи рожи поганые. Натерпелся он страсти, плутая по дорогам торным, путаясь в буквах несмышленых. Возьмет, да вдруг вместо одной другую выведет иль местами соседок переставит, а то и вообще забудет обеих. Честь монастырская и человеческая затерялись в словесах трудных, кои кружили Даниила, обволакивая языческим колдовством. Нестерпимая жара хватала за горло, душила, раздирала тошнотворным угаром лампады. Он сменил лампаду на свечи, сворованные от образов, и ставил их так близко, что огонь обжигал руки. А он все равно не мог разглядеть письма.
Глаза слабели с каждым днем, как и сердце. Временами сплошной туман накрывал его плотным шатром. В серой пелене усматривал он всадников, теснящихся и сражающихся в узкой келье. Самого инока порой уносило куда-то под потолок, где тоже было несносимо душно. Даже риза казалась мала ему, и он пытался освободиться из нее, но тщетно.
От повести несчастливой по-прежнему веяло великой печалью. Она переливалась в Даниила, вскипая со всей тьмой нескончаемой скверны. Жизнь его оборотилась в наваждение. Не знавал он боле людей, не различал бумаги, а от речи, когда-то богатой и затейливой, словно терема боярские, всего-то и осталось, что три слова: «Мертвые срама не имут». Ими и встретил Даниил врагов нежданных, ворвавшихся к нему в келью лютой ночью целым полчищем. Кто такие были, какого роду-племени, не заметил инок. Успел лишь перекреститься, прежде чем вонзили они копье безыскусное в ослабевшее тело. Удар пришелся прямо в сердце, и крови не было совсем. Только последним дыханием задуло на столе свечку.
Читать дальше