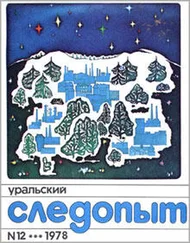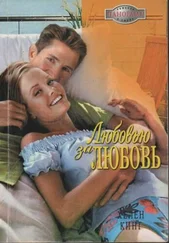Я не слышал, как подошла Рашида, но не думайте, что я глухой. Все дело в том, что Рашида ходила по-кошачьи. Она протянула мне кусок хлеба, намазанного салом, будто я один из тех ребятишек, которым она целый день мазала огромные, в полкило весом, ломти хлеба. Я сказал, что не хочу есть.
— Не ври! — шепнула она, сунула мне кусок в руку и села рядом. — Отец нам вечно твердит, чтобы не торчали на рельсах, и я малышам то же самое говорю, хотя это все глупости: поезд тебя может задавить, только если ты глухой как пень! — сказала она, стараясь перекричать лягушачий концерт, который все не смолкал, хоть я уж давно не свистел.
Мы в тот вечер не были глухими как пни, но поезд нас все-таки чуть-чуть на задавил. Это был небольшой тягач, из тех, что перевозят дрова, уголь, известку и подобные вещи, то есть не бог весть что за поезд. Он подобрался к нам сзади, и мы услышали его лишь тогда, когда машинист притормозил и обругал на чем свет стоит всех влюбленных, шляющихся по рельсам.
— Хотите помереть, делайте это не в мою смену! — крикнул он, когда мы с Рашидой уже кубарем катились вниз по насыпи и рука ее трепетала в моей, как пойманная птичка.
— Мы могли… Мы могли… — бормотала она несвязно и никак не могла закончить фразы, а потом вдруг ударилась в смех. — Мы дураки, мы самые-пресамые дураки! — Она быстро остановилась и, прижимая мою ладонь к своей груди, сказала: — Слушай!
Ей незачем было это говорить — сердце у нее колотилось, как пожарный набат, но я его почти не замечал. Мои пальцы, будто окаменев, ощущали только маленький, налившийся персик под кофточкой, и ноги вдруг словно отнялись. Если б она так же стремительно, как прижала к груди, не оттолкнула мою руку, я бы потерял сознание. Я стоял, не сводя с нее взгляда, будто впервые видел эти залитые вечерним солнцем золотые волосы и глаза, как у мальчишки. Во рту у меня пересохло. Она посмотрела мне прямо в лицо, потом вырвалась и крикнула:
— Ты гад, ты гад психованный! Я не хочу, не хочу, чего ты́ хочешь!
Едва набрав слюны, чтобы пошевелить языком, я спросил, что же такое я хочу, а она, злобно и быстро ударяя кулаками меня в грудь, сказала:
— То самое. То. Сам знаешь, что!
— Не знаю! — сказал я.
— Не ври. Знаешь. Не надейся, не будет того, чего ты хочешь.
— Ну скажи, чего я хочу! — Я привлек ее к себе, а Рашида уперлась мне в грудь локтями и заплакала.
— Нет! Нет! Нет! — повторяла она одно и то же.
— Что «нет»? Ты — дуреха. Разве сама не понимаешь, что ты еще совсем девчонка? Разве мужчина мог бы пойти на такое с ребенком?
Я прижал ее голову к своему плечу и гладил ее волосы. Мне казалось, что она не перестанет всхлипывать до конца своих идиотских дней, но она кончила так же мгновенно, как и начала. Потом подняла ко мне лицо, и в сумерках глаза ее горели.
— Поцелуй меня, Бода, если хочешь, — сказала она и зажмурилась, как те красотки в кино, которые, полуоткрыв губы, ждут поцелуя какого-нибудь фрайера. Я рассмеялся и смеялся как сумасшедший миллион минут. Рашида обиделась.
— Может, ты думаешь, что я еще совсем ребенок? — сказала, повернувшись ко мне спиной. В ее голосе прозвучало такое отчаянье, что у меня перехватило дыхание.
— Ты — глупышка! — Я подошел и обнял ее со спины. Когда я прижался губами к ее щеке, плечи ее вздрогнули. — Ты еще совсем глупышка! — Я целовал ее глаза, щеки, все, что попадалось. Она шептала, что теперь разрешает мне все, что я захочу, но я ничего другого не хотел. Я сжимал ее в объятиях и целовал щеки, солоноватые от слез, губы, прохладные и сладкие, как черешни, а рядом проходили поезда — два товарных, пассажирский и снова тот, следующий в Афины и Стамбул. Пассажирам нас не было видно, потому что мы сидели в темноте под насыпью, а мы снова смотрели, как они жуют или дремлют, и не могли поверить своим глазам. Ни на одном лице, кроме личика ребенка лет четырех, не было и следа радости.
Рашида дышала прерывисто и быстро. Тома Черный говорил, что когда девчонки начинают дышать быстро и прерывисто, значит, они на все готовы и тут уж нельзя упустить момент. Я не хотел воспользоваться моментом и не хотел ничем ее обидеть, потому что это было бы то же самое, что обидеть себя. Я, сам не зная что, без умолку болтал ей о Соломоновых островах, об островах Галапагос, о черепахах весом в двести килограммов, выползающих из моря только для того, чтобы снести яйца в песок, о черепашатах, которые вылупляются из тех яиц, о птицах, подкарауливающих мгновение, чтобы схватить и проглотить малышек, когда они в безнадежном порыве спешат к морю.
Читать дальше