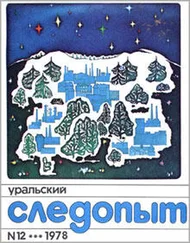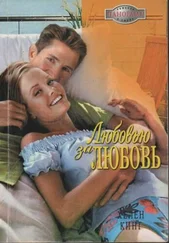На переменках, куря в уборной, наши мальчишки бахвалились друг перед другом: кто скольких девчонок трахнул. В этом деле я плелся явно за всеми в хвосте, но это неважно. Саша Альбрехт называл меня идиотом, а Тома Черный скандировал: не-до-те-па, не-до-те-па! Как, разве у тебя еще ничего не было с этой турчанкой? И я им сказал: не было, так будет. Сейчас я сам себе был противен из-за этих слов.
На небольшой возвышенности, окруженной Тисой и ее мертвыми заводями и протоками, Караново словно парило в воздухе, повиснув на шпилях своих церквей, подпертое сбившимися возле них вереницами домов. Завод, где царствовал мой отчим, находился несколько на отшибе, и его труба тянулась выше всех домов и даже церковных шпилей. Наша гимназия, являющая собой смесь готики и барокко, со множеством каких-то маленьких башенок на крыше, выглядела картонным макетом, втиснутым в нежно-голубой шелк неба.
Около пяти начинались соревнования по баскетболу между 3 «А» и 3 «Б» классами, и я знал, что меня уже поджидают в школьном дворе, на баскетбольной площадке. Из-за своего двухметрового роста я был незаменимым игроком в команде и страшно этим гордился. Сейчас мне до смерти не хотелось туда идти, хотя я предвкушал восторженные взгляды наших девчонок.
Рашида молчала. Держала меня за руку и смотрела на деревья, скрывающие от нас ее дом. И молчала. Золотой воздух был теплым, насыщенным запахом меда, а ее полусомкнутые губы были свежими и розовыми, как первая черешня. Вероятно, она не пошевелилась бы, если б я к ним прикоснулся, но я не прикоснулся. Только провел рукой по ее колену и положил на него свою голову. Моя щека чувствовала, как подымается и опускается ее живот. Она водила пальцами по моему виску, и это было как-то странно. Так могут гладить лишь женщины, которым уже за тридцать. Но когда такое делает четырнадцатилетняя девчонка — лучше не может быть ничего на свете.
Я хотел сказать, что люблю ее, но испугался насмешек. Показалась дрезина с рабочими сахарного завода и спасла меня от такого шага. Мы едва успели вскочить с рельсов. Сразу за дрезиной на север проследовал международный экспресс. Он здесь не останавливался, но на переезде сбавил скорость, и мы смогли рассмотреть немецкие и французские надписи, жующих в вагоне-ресторане пассажиров и красную фуражку машиниста. Мы помахали, и нам ответило несколько рук. Это ехали туристы в Мюнхен. Я представил себе горы и равнины, которые должен был преодолеть этот поезд. Представил себе разрушенные и вновь восстановленные немецкие города Вольфганга Борхерта, заводские трубы, подымающиеся в небо, как стиснутые в кулак руки людей, и рельсы, рельсы, бегущие дальше в Голландию и Данию, в Норвегию и Швецию, к эскимосам и полярному голубоватому свету где-то на другом конце земли. Эти края не очень меня к себе влекли, потому что я не люблю холода, и я мысленно вообразил себе рельсы, бегущие в другом направлении, в Афины, Стамбул, затем через Аравийский полуостров к Индии, Индонезии и Японии, навстречу вечному рождению солнца. Мне захотелось отправиться в ту сторону или просто на берег моря, откуда огромные корабли плывут во все концы нашего удивительного мира.
Рашида следила за направлением моего взгляда и, вытащив из моей свою руку, сказала, что готова поехать, вернее, будет готова, только надо закончить учебный год. Со двора донесся плач меньшого пацана, и она очертя голову бросилась с насыпи. Я снова сел на рельсы, еще теплые и звенящие от прошедшего поезда, возле телеграфного столба, который гудел, если приложить к нему ухо. На шпалах двое красных жучков совершали свой брачный танец, а на проводах нахохлившись сидели воробьи. Я вытянул ноги и коснулся пальцами гладких и теплых рельсов. Мышцы мои напряглись, я весь был в ожидании чего-то.
Снова прижал ладони к рельсам, а потом провел ими по шее, плечам, по груди и ниже до колен, повсюду ощущая трепет молодого, нетерпеливого тела. Сам не знаю отчего, но я вдруг почувствовал счастье, что живу на свете, что существует эта насыпь, железнодорожные пути на ней, болото внизу, а на крохотном клочке суши среди него — дом Рашиды и двор, полный визжащих ребятишек. Я не видел Рашиду, но по мгновенно стихшему плачу понял, что она подняла упавшего ребенка, вытерла ему нос и, вероятно, затолкнула на кухню, чтобы дать кусок хлеба. Я не спрашивал, вернется она сюда или нет, да и не мог ее об этом спросить: мы вообще понимали друг друга почти без слов.
В золотых лучах заходящего солнца, отделенное от меня несколькими километрами, дремало Караново. Между ним и мной словно бы кто-то опустил тонкую, газовую завесу. Мы видели друг друга, но не слишком ясно, и это вызывало ощущение удобства. Потирая рукой колено, я стал насвистывать. Разве я об этом вам еще не говорил? То есть о моем свисте? Я свищу как бог. Кстати, это единственное, что я делаю как бог. Лягушки на него тотчас прореагировали и отозвались целым хором. А вечер шелестел, словно теплый дождик.
Читать дальше