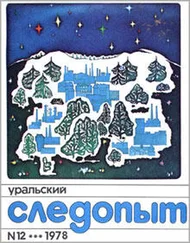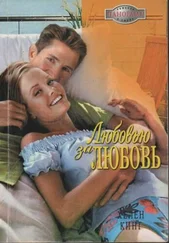— Опомнись, человече, сам не ведаешь, что говоришь. Я не позволю себя оскорблять, — вскипел он и, оттолкнув могильщика, склонился над Антонкой. Он положил ей руку на голову и вдруг расплакался как ребенок. Я устала от этого зрелища, мне было непонятно, почему могильщик презрительно рассмеялся и оттолкнул священника, а тот всхлипывал и продолжал гладить Антонку по голове.
— Вам не место в этом доме, — повторил Ерней, — вы его оскверняете, как я это себе понимаю.
В этот момент Антонка открыла глаза, священник отошел, я все меньше понимала, какое он ко всему этому имеет отношение, она захрипела, пытаясь отыскать взглядом партизана, но сознание вернулось к ней ненадолго.
Доктор вышел из кухни, где он мыл руки после осмотра Эдо. Качая головой, он произнес:
— В этом доме поселилось несчастье. Эдо долго не протянет. Открылось внутреннее кровотечение, ему уже ничем нельзя помочь. Если бы он лежал спокойно и не волновался…
— И Антонка тоже? — всхлипнула я.
— Антонка потеряла много крови. Кости черепа сломаны, они сдавливают мозг. К тому же внутреннее кровоизлияние. Эти повреждения, Иза, — следствия ударов, многочисленных ударов. Убери эти камни, что завернуты в твоем фартуке, ими твою сестру убили. Точно в каменном веке живут, а не сейчас, когда люди грамотными стали.
Священник резко повернулся, прошелся по комнате и вышел.
— Всех троих положим в могилу к родителям, — сказал могильщик.
— Что вы говорите, — закричала я. — Антонка не умрет, она не может умереть. Как же я останусь одна, куда мне деться?
Но никто меня не слушал. Антонка умирала, Эдо тоже, партизан время от времени открывал глаза, потом снова терял сознание; доктор был обеспокоен, он велел мужчинам соорудить повозку, чтобы как можно скорее отправить его в больницу, чтобы им не в чем было себя упрекнуть.
Этой ночью умер Эдо. Через несколько дней Антонка. „Ну и живучая же она“, — говорил доктор, он заходил к нам дважды и все время заставал ее живой.
На похоронах была вся деревня. Могильщик и Ерней выкопали Павла и положили его по левую руку от Антонки, а Эдо по правую. Под ними были отец, мать, бабушка и дед. Кто-то говорил хорошие слова. Не помню кто. Священника и его брата не было.
Сегодня почти никто не помнит о том, что я вам рассказала. Мне помогали, правда, но уже после того. Люди так быстро все забывают. Вы, вероятно, это уже испытали».
Она немного помолчала, затем сказала:
— Никто не может ничего изменить. Мне не хотелось ничего выяснять. Все мхом поросло. И могилы, и правда. Иногда люди забывают про любовь, вот это хуже. — Я ничего не ответил, она не спеша продолжала: — Порой мне кажется, что я ущербная какая-то, оттого что не было у меня в жизни любви. Мне Антонка и во сне снится. Если бы я пошла с ней тогда, помогла бы, уберегла от того, кто бросал в нее камни, кто бы он ни был.
— А что же партизан? Ведь он был рядом, — с трудом выдавил я из себя.
— Он, вероятно, был болен. Доктора решили, что с ним не все в порядке, нездоров он. Послали его куда-то в горы на поправку. Для службы он больше не годился. Какая-то серьезная травма у него была, до конца не залеченная.
— Бывает, — сказал я.
Небо было ясно и бездонно. Меня не страшило, что оно может неожиданно навалиться, накрыть и удушить меня. Звезды напоминали очаровательные светящиеся окошки, которые открывает и закрывает чья-то невидимая рука. Даже улыбнулся невольно, чувствуя полную свободу. Какая бездна передо мной! Вволю можно надышаться, надуматься, начувствоваться, походить по горам.
Я расположился почти на самом краю ровной площадки, в стороне от остальных, не поставив даже палатки, хотя было холодновато. Хотелось побродить спокойно, чтобы никто не мешал. Глаза уже устали от асфальта, вычурных вилл, небоскребов, зданий-стекляшек, серого дыма, черных распухших облаков гари — всего того, что всегда разделяло меня и чистое светлое небо. Я спохватился поздно, но все же не настолько, чтобы, не дожидаясь, пока меня окончательно задушит, сломит и подчинит себе монотонный ритм самоуверенной, самодовольной и эгоистичной жизни, не решиться все-таки удрать в путешествие по тем дорогам, которые я изведал в молодости. В те времена, будучи партизанским курьером, я старался заглянуть за горизонты грядущего и преодолевал подъемы, достойные горных коз и орлов, наслаждаясь собственной отвагой, стойкостью, упорством и естественностью. Ощущения мои были именно такими. Я лежал на куче собранного на скорую руку лапника, спальный мешок, конечно, согревал меня, но не спасал от жестких веток, которые упирались в спину. Меж тем, как отсчитывала минуты бессонница, овладевшая мной из-за нахлынувших спустя столько лет воспоминаний, ко мне возвращалось и прежнее душевное состояние: спокойствие, ясность мыслей, решительность и дерзость. Все, что, казалось, навсегда утонуло в клочьях тумана, заменяющих нам небо, отчего я все меньше помышлял о возможности протеста и побега, начинало возвращаться, приобретая свой истинный облик. Не романтический, как мне виделось когда-то, а вполне реальный. Соответствующий. Приемлемый.
Читать дальше