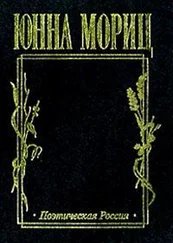— Ни в коем случае! Ромашка, ромашка, вы меня слышите? Говорит Шекспир! Говорит Шекспир! Немедленно покиньте кастрюльку-ядоварку! Не отравляйтесь ядом надежд! Прекратите рвать на себе лепестки! Если вам при гадании выпадет «выдать», огромное сварят из вас мыло с ромашками на обёртке!
— Мыло? Из меня? Сварят? Живьём? С ромашками на обёртке? Какой ужас! Какие жуткие мысли у вас в голове! Как можно такое вообразить, когда нас окружает со всех сторон прогрессивное человечество? А у вас, негодяй Шекспир, экстремист злодейский, на уме какие-то гитлеровские кошмары, — вот не зря ваше мрачное творчество не любил наш Лев Николаевич Толстой!
— Пахнет мылом! — сказал Шекспир. — Как тошнотворно тут пахнет мылом!
И действительно, отвратительно пахнет мылом, мыльной оперой, замыленным глазом, пахнет теми, кто «влез без мыла», и обмылками пахнет, обмылками, скользкими, жизнеопасными, — подвернётся такой обмылок — и нет человека, разбился вдребезги.
Холщовая торба есть у меня, тёмно-красная, с надписью «Шекспир и компания». Давным-давно Шекспир и его компания подарили мне в Лондоне эту чудесную вещь. Она всюду носит меня с собой и никогда, никогда никому не выдаст.
— Ни в коем случае! — говорит Шекспир, поправляя с хрустом шейные позвонки и напевая хулиганский фольклор «Судью на мыло».
— Какого судью? — кричат в мегафон из кастрюльки-ядоварки.
Не даёт ответа. Врать не хочу, воровать не хочу, это — Гоголь.

Красивая, стройная Вера с медной стружкой кудрей до плеч. В длинном шёлковом синем платье с россыпью малюсеньких звёздочек. В сандалиях Артемиды на босу ногу. С охотничьей сумкой через плечо, украшенной лисьими хвостами и мордочками. Шла показать своё творчество недоступному гению, с которым договорились о встрече высшие силы.
Гений был весь из тумана, который плыл над рекой, где плыло всё остальное — луна и звёзды, флора и фауна, времена и народы, вечернее солнце и утреннее, музыка, живопись и кино, все языки человеческие, письменные и устные. Он дышал и виднелся не в глубоком кресле, не на стуле, не на диване — он вообще не сидел, не стоял и не лежал, а плавал с белой чашечкой чёрного кофе и с белой длинной глиняной трубкой, где курился дымок знаменитого пиратского табака.
Вера вынула из охотничьей сумки дохлую дичь своего творчества и, хохотнув басом на нервной почве, протянула рукопись недоступному гению. А рукопись поплыла под настольную лампу, ствол которой белым винтом уплывал ввысь, покачивая холщовым ведром абажура. Ведро абажура было наполнено пьяной вишней, пропитанной пьяным светом.
Через двадцать-тридцать минут недоступный гений улыбнулся Вере, как старому другу, как близкому человеку, перед которым он кругом виноват, и сказал:
— Всё это замечательно! Ни за что не бросайте писать, у вас есть собственная история, чувство события, вы не боитесь ни мыслей, ни слов. Печатать это сейчас не будут, и больше никому не показывайте, вас могут насмерть обидеть, унизить и растоптать, отбить охоту и всяческий интерес. Надо беречь пламя, оно ведь не газовая горелка и не лампочка электрическая — включил, выключил, опять включил. Ну, допустим, это где-нибудь вдруг напечатают, вы получите мелкие деньги, подарите полтора десятка журналов или сборников с этой публикацией своим знакомым, приятелям, они вас поздравят, — а что дальше?.. Пустота. Читателей нет. Приятелям эти журналы и сборники — лишний груз, не будут же они читать одно и то же сто раз, в лучшем случае затолкают куда подальше. Бездну времени надо убить на поиски доброжелательных рецензентов, пить с ними водку, постоянно встречаться, слушать их сивый бред, разнообразно льстить их самолюбию, в их ритме стареть и умирать. Я готов быть вашим единственным читателем вместо тех двадцати-тридцати, ради которых с таким трудом вы попали ко мне сегодня.
Искушение было сладким и страшным. Читатель, единственный, но зато какой!.. Вера к нему пробивалась два года, разнообразно льстя самолюбию многих обманщиков, унижаясь бесконечными напоминаниями о своем интересе, пока совершенно случайно не познакомилась со старушечкой, которая пылесосила раз в неделю жилплощадь этого недоступного гения.
Как только Вера о прозрачной старушечке вспомнила, туман рассеялся, и стало вдруг ясно, и стало вдруг видно, что у недоступного гения — никакая жилплощадь, никакая мебель, книги стоят на досках, доски — на кирпичах, и никакие деньги не вложены в обстановку.
Читать дальше