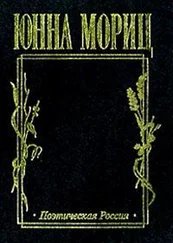— Ма-а-а-ма, ма-а-а-мочка… — Гриша вдруг заскулил во сне так тоскливо, так жалобно.
И сон отлетел от Алёши, как пуговица от шубы — на зимнем ветру, когда воротник нараспашку и холод в самую грудь! Он поёжился и натянул одеяло, а потом нырнул под него с головой и начал дышать, чтоб тепло накопилось и в этом тепле чтобы снова завелся какой-нибудь сон. Но из этого ровным счетом ничего у Алёши не вышло.
Не к месту и не ко времени напала на него совершенная бодрость. Эта бодрость раскутала всё дневное, всё, что он так старался в душе усыпить, чтоб оно не заплакало. И вдруг завладела Алёшей жгучая ясность. Он тихо оделся и вышел на воздух. Ночь показалась ему слишком светлой. Посмотрел на часы — половина третьего. В мастерской у отца горел свет. Отец работал.
Прижавшись к стене, краем глаза Алёша увидел высокий и узкий холст, прорисованный углем. Трифон сидел на сосновом ящике, пил чай из пиалы и разговаривал страшным шепотом вперемежку с неукротимой зевотой:
— Бессонница, старик, тугие паруса!.. И, Бог мой, какая только чертовщина не лезет в голову, когда у человека отшибло сон по прихоти судьбы. Прошлым летом, когда я писал декорации, там один парень приезжал… научный такой парень, с проблесками гениальности. Он не спит, я не сплю. А какое-нибудь дерьмо, вроде Чимкелова, спит, между прочим, безо всяких снотворных, часов по восемь, а захочет — по десять! Так вот мы с этим парнем, он тогда Пушкиным занимался, и я ему, как художник, был до зарезу необходим, ты же знаешь рисунки Пушкина… так вот мы с этим парнем восстановили все пушкинские строки, пропущенные во всех собраниях сочинений.
— Как восстановили?! В каких собраниях сочинений?
— В обыкновенных. Мы их сочинили, старик! Представь себе! Сочинили, исходя из того, что Пушкин написал до этих строк и после.
— Какое варварство! Варварство!.. Варварство… — задыхался от гнева отец.
— Да что ты так кипятишься? Работу, между прочим, приняли на ура. И напечатают. Когда времена будут получше. Ты какой-то, Боткин, закомплексованный и живешь не в данном конкретном времени, а в идеальном и вечном, где всё единственно и неповторимо. Я бы даже назвал это болезнью Боткина! — и он хохотнул, страшно довольный своим каламбуром. — Ведь мы реставрируем старых мастеров — и ничего, весь мир смотрит, и сам чёрт не разберёт, где кто приложился! Умеючи, и Пушкина реставрировать можно. Не всем, конечно. Но некоторым. Всё можно, умеючи! Я бы, например, будь на то моя воля, все бы чумные кладбища раскопал. Уму непостижимо, сколько там золотых и алмазных фондов зарыто! Ведь тогда люди всё лучшее с собой брали в могилу. Сами перед смертью надевали на себя всё самое драгоценное: браслеты, перстни, серьги, гривны, диадемы, золотые плащи, туфли, цепи, нарукавники, набрюшники! Под мышку — золотой кувшин, пять кило весом, молитвенник в золоте, в серебре с брильянтами, изумрудами, сапфирами! Под голову — золотую подушечку ручного плетения! А ткани! А утварь! И всё это лежит там веками, в полной целости и сохранности — потому как боятся копнуть. А чего бояться? Чего? Чумы? Так есть ведь противочумные костюмы! И можно воздух в окрестностях опылять какой-нибудь прививкой, чтобы население не пострадало. Всё можно, умеючи! — Трифон хлебнул хладного чаю и прибойно выпустил воздух из лёгких.
Алёше вдруг показалось, что дыхание Трифона источает смрад бубонной чумы. Но что ужасней всего, подумал Алёша, так это то, что одно с другим связано… не вполне научно, но связано… Одной идеи разграбить чумные кладбища — вполне достаточно, чтобы вспыхнула вдруг чума, микроб которой живёт вечно даже в могиле, облитой едкой известью, испепеляющей кости.
— Тебе, Трифон, в детстве какие прививки делали? — услышал Алёша глухой шепот отца.
— Какие всем. От кори, от коклюша, от дифтерита. От оспы первым делом. А что?
— Тебе ещё сделали прививку от страха Божьего, от мук совести, можно сказать… На этот счёт у тебя зверский иммунитет.
— Да уж! — хихикнул Трифон. — Нет как нет у меня болезни Боткина! Это я здорово про тебя скаламбурил — в самую бубочку! Болезнь Боткина, ха-ха, хо-хо!
Алёша тихонько вернулся в саклю. Маленький Гриша весь утонул в раскладушке, но спал вверх лицом, на котором играл удивительный свет, то ли лунный, то ли звёздный, то ли ещё более дальний и сильный.
«Я, пожалуй, сейчас поеду. Спать мне совсем не хочется. Сахар ещё остался, на дорогу как раз хватит. Куплю в крайнем случае, — шёпотом думал Алёша. — А маму Грише никто не заменит, он еще маленький, маму во сне зовет… а мама тоже где-то поблизости не спит, глаза таращит… Я, пожалуй, сейчас поеду».
Читать дальше