Так было и в данном случае. Материал, который выносили на заседания Клуба сначала Ромашин со Злотниковым, а позже, ни о чем не подозревая, и я, представлял собой именно такой «двадцать пятый кадр»: попытку скрытой коррекции, попытку повлиять на ситуацию «изнутри». Это должно было привести к важным последствиям: к перестройке ландшафта власти, к реконфигурации административных элит, к тому, что одни люди из окружения президента уйдут, а другие, пока находящиеся в тени, придут на их место. То есть – к полной смене политического репертуара, к совершенно иной оркестровке всех имеющихся акцентов. Конкретизировать этот сюжет я не мог. Я не очень хорошо знал тех людей, которые должны были в результате подобной пересортировки исчезнуть, и еще хуже – тех, кому режиссурой назначено было появиться на авансцене. Я был от этого слишком далек. И в конце концов, какое это имеет значение? Это была борьба за власть, за свой «текст», за то считывание реальности, которое связано с определенными политическими персонажами. Я в такие вопросы вообще никогда не вдавался. Однако я знал другое. Я знал, что руль положен в неправильном направлении: ветер вечности, не стихающий ни на мгновение, бьет теперь прямо в борт, лодочка моей жизни опасно накренилась, волны, поднимающиеся из мрака, готовы захлестнуть меня с головой. Спасения действительно не было. Я пребывал в самом сердце Сумеречной страны.
Итак, жить мне оставалось считанные минуты. Переулок, куда меня занесло, просматривался насквозь. В одном просвете его видны были дома на набережной Фонтанки: трехэтажные, теснящиеся друг к другу, лепные, похожие на декорации, казалось, что их можно проткнуть, как картон, а во втором, над которым свисали жилочки проводов, – Загородный проспект, тоже – как будто нарисованный дымчатой акварелью. На мгновение его заслонила громада проплывающего троллейбуса. И вот когда она проплыла – бесшумно, ускользнув навсегда, – то из подворотен, расположенных друг против друга, словно отраженные в зеркале, появились две одинаковые фигуры: потоптались на месте, точно принюхиваясь, одинаково развернулись и двинулись мне навстречу.
Одно могло служить утешением: это были не Големы. Не было в них земляной тяжести, заставляющей неуклюже раскачиваться из стороны в сторону, не было влажного грязевого блеска, удушающей черноты, грубоватости сочленений. Они даже не шли, а громадными колдовскими прыжками перемещались над мостовой. Колыхались балахоны из мягкой ткани, развевались отвисающие рукава, удлиненные, гладко-лысые головы тыквенной желтизны были наклонены вперед.
Впрочем, все это я припоминал потом, задним числом. Это свинчивалось у меня в памяти, как части путаного сюжета. А в тот момент я лишь с испугом сообразил, что нахожусь уже в другом, противоположном ответвлении переулка – стою, прижавшись спиной к стене, и судорожно, как в лихорадке, ощупываю пальцами штукатурку. Пути на набережную тоже не было. Оттуда, вывернув то ли из-за угла, то ли из ветхой парадной, двери которой, по-моему, были проломлены, приближались ко мне две точно таких же фигуры, и их тыквенные физиономии тоже были неумолимо наклонены.
Одновременно мерзкий скребущий звук раздался над ухом. Будто кошка зацарапала по стеклу.
Я бешено обернулся.
Это была не кошка.
В окне первого этажа, во мраке квартиры, где, вероятно, никто не жил, я увидел старушечью физиономию, собранную, казалось, из одних дряблых морщин. Вздыбленные седые пряди, в глазах без зрачков – угольная красноватая муть, изо рта, сверху и снизу, сминая губы, торчат пары клыков.
Старуха прижала к стеклу птичьи лапки, и вдруг гладкая поверхность его пошла белесоватыми трещинами. Рухнул ливень осколков. Хлестнула в проеме рам твердая крошка. А скрюченные лапки просунулись и заскребли уже по наружному переплету.
Я услышал радостное повизгивание.
Окружающее начало расплываться – будто в слезном тумане.
Волной вздулся мрак.
И в эту секунду кто-то схватил меня за руку и дернул так, что я едва устоял на ногах.
– Не оглядывайся, – сказала Гелла. – Когда ты оглядываешься, они начинают нас видеть.
– А разве так они нас не видят? – спросил я.
– Гремлины живут под землей… Днем они слепнут… Сейчас для них слишком светло… Но когда ты оборачиваешься, когда ты смотришь на них, они чувствуют твой взгляд…
Она слегка задыхалась.
Губы у нее были разомкнуты, на впалых щеках – тени слабости.
Правда, это не шло ни в какое сравнение с тем, как задыхался я сам. У меня пронзительно кололо в боку, а мучительная пустота, которую я вдыхал вместо воздуха, раздирала ткань легких тысячами иголок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


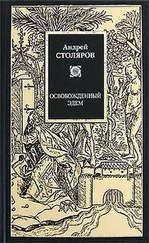



![Андрей Столяров - Боги осенью [Авторский сборник]](/books/395773/andrej-stolyarov-bogi-osenyu-avtorskij-sbornik-thumb.webp)

