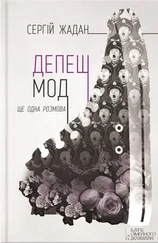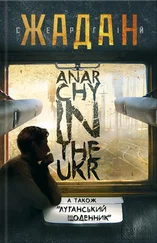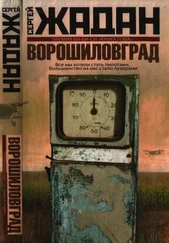И тут приходит Нина. Видит всё это, но молчит, сразу же сгребает девочек и вместе с ними заходит в бокс, но дверь за собой не закрывает, так что Паше всё слышно. Слышно, как Нина кому-то вытирает слёзы, как смывает тушь с лиц, как даёт кому-то сахар к чаю, как просит кого-то принести влажные салфетки. Рассказывает про свою сестру. Младшую, более уверенную в себе, более успешную. Рассказывает, как та постоянно донашивала одежду за всеми своими старшими сёстрами, подружками и кузинами. За ней, Ниной, тоже. И столько было у неё этой чужой одежды, и так она ей оказывалась к лицу, что ей все завидовали. Даже те, чью одежду она донашивала, тоже завидовали. Поскольку, говорит Нина, дело не в одежде, а в чувстве собственного достоинства. И в отсутствии страха. Ну этого она, понятно, не говорит, но Паша понимает её слова именно так. Так и есть, думает он, всё правильно: дело не в одежде, дело не в том, что на тебе. Мы же тут все, если подумать, живём, как в интернате. Брошенные всеми, но накрашенные. Кому что перепадёт — то и носим. Другое дело, что это ничего не меняет. Можно ходить в краденом секонде и чувствовать себя королём мира, а можно иметь хорошую тёплую куртку и быть толстым, никому не нужным мудаком, думает он о своём. И почему, думает, я со своими учениками никогда об этом не говорю. Надиктовываю им все эти мудацкие диктанты, вбиваю в головы трудные и непонятные примеры, обучаю правилам, которые им никогда не пригодятся. Учу говорить без ошибок. А вот просто разговаривать, разговаривать так, чтобы тебя слышали и понимали, — не учу. Да и сам не умею.
И ещё, думает Паша, почему они её слушают, почему перестают плакать? Почему их страх отступает от её слов? Может, потому, что у неё тихий и спокойный голос. Таким голосом не угрожают. Таким голосом даже не защищаются. Таким голосом как раз и говорят о том, что бояться не обязательно. Просто все остальные здесь кричат. Постоянно. Дома. На улице. В общественных местах. В местах массового отдыха. Вот моя сестра, скажем. Да, сестра. Паша вспоминает недавний разговор по телефону — и во рту становится горько, будто он сосал металлическую ложку. Вспоминает, как он последний раз ехал с ней в одном вагоне, в позапрошлую зиму, два года назад, ещё до всего. Оказывается, это не очень-то удобно, когда твоя сестра проводница. Причём, твоя проводница, проводница, с которой ты едешь. Когда она проверяет у тебя билеты, потом приносит тебе постель, закрывает перед твоим носом дверь туалета. Ну, у него она билеты, конечно, не проверяла. Да и ехал он без билета, в одном с ней купе. Но во всём остальном путешествие оказалось бесконечным и изнурительным. Ещё на перроне, на станции, сестра начала кричать. И кричала всю дорогу: на Пашу, на проводницу из соседнего вагона, на милицейский наряд, на начальника поезда. Что уж говорить про пассажиров, которые даже не сопротивлялись. Более того, кое-кому это даже нравится. Некоторым вообще нравятся женщины, которые кричат. Некоторые принимают их истеричность за темперамент. Она даже ночью несколько раз вскрикивала, будто испугавшись собственного молчания. Спали они сидя, на нижней полке: на верхнюю сестра запустила какого-то безбилетного пассажира, заработав на нём скупые, но живые копейки. Сидели до утра, смотрели, как за окном в свете пристанционных фонарей пролетают золотые снега, время от времени сестра измучено впадала в сон, клонила голову на мягкое плечо брата. Паша сидел, стараясь не потревожить, но на очередном перегоне вагон встряхивало, сестра вскрикивала и вопила что-то сквозь сон, пугая простуженного пассажира на верхней полке. Хотя наутро, когда уже переехали на правый берег и подъезжали к киевскому вокзалу, Паша безмятежно спал, свернувшись на одеялах, а сестра, успевшая растолкать всех граждан пассажиров и выгнать в коридор простуженного обитателя верхней полки, вернулась к нему в купе и, склонившись, тихо, по-сестрински, тронула за плечо. А когда Паша открыл глаза и узнал её, спокойно сказала: вот так.
— Вот так, — говорит Нина, стоя над ним. — Вот так.
Паша встряхивает головой, быстро встаёт.
— Идите на кухню, — говорит она Паше. — Возьмите что-нибудь себе в дорогу. Я поговорю с ним, — показывает она на дверь бокса.
— Я сам, — отвечает на это Паша. — Я сам поговорю.
— Поговорите, — соглашается Нина, — ещё поговорите. У вас ещё столько времени впереди.
Паша встаёт, поднимается по ступенькам. Идёт по коридору.
+
Физрук сидит возле окна, читает газеты. Туман за окном начинает распадаться на куски, и когда очередной кусок отламывается и относится ветром, помещение столовой освещается — и можно прочитать очередную страницу. Затем наползает новая масса вязкой влаги, и физрук откладывает газету, сидит, ждёт. Со стороны может показаться, что он обдумывает прочитанное. Вытянул ноги к растопленной печке-буржуйке, греется. Над буржуйкой повесил своё чёрное пальто, которое совсем отсырело на улице. Пальто накинуто на старую школьную швабру, рукава свисают пусто и безнадёжно. Оно похоже на разбойника, которого распяли на кресте году так в тридцать третьем от рождения Иисуса. Мокрая ушанка тоже висит рядом. На плите кипит чайник, время от времени физрук подливает кипяток в кружку с крепкой заваркой. Паша заходит, останавливается на пороге, не знает, вовремя ли зашёл, но физрук сразу же машет ему рукой: иди сюда, к огню. Паша подходит, улыбается ему, как давнему приятелю, опирается на какой-то перевёрнутый ящик. Сухо потрескивают дрова, бело зависает за окном туман — можно подумать, что они просто застряли где-то в горном отеле, теперь вот у них достаточно времени и дров, чтоб отогреться и успокоиться, прежде чем отправиться дальше. Вот только взрывы где-то там, за туманом, никак не умолкают. А повернув голову, попадаешь взглядом на гору немытой посуды, стоящей здесь неведомо с каких пор. Но если туда не смотреть и если не прислушиваться к работе артиллерии в городе, если смотреть, скажем, лишь на огонь — чувствуешь себя уютно и защищённо. Пугает разве что распятое пальто, чернеющее вверху. Смерть где-то рядом, она просто выжидает.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу