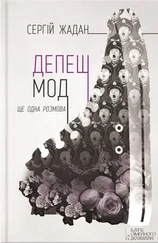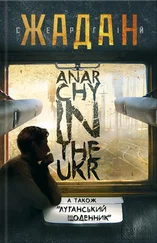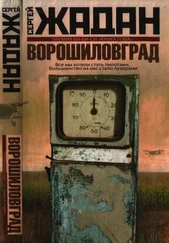Чёрное от не собранных с прошлого года подсолнухов поле, кое-где серые, аж в синеву, снежные ошмётки, влажная жирная земля. Глубокие следы от техники, въезжавшей прямо в эту тёмную подсолнуховую пройму: неизвестно, то ли для того, чтобы отстреляться и поехать дальше, то ли чтобы пропустить встречную колонну Паша делает шаг вперёд, сквозь затвердевшую снеговую корку остро пробивается трава, лучше туда не ходить, напоминает он сам себе и отступает ближе к машине, дающей о себе знать тёплым бензиновым запахом за спиной. За перемёрзшими подсолнухами тянутся ЛЭПы, словно подставки для рыболовных сетей. Чёрный металл поддерживает тяжёлые продольные линии проволоки, которые рассекают небо, уходя дальше в дождь. В низине, далеко, за полями, темнеют мокрой шерстью деревья дачного кооператива. Этой зимой деревья вообще особенные: чуткие, как звери, вздрагивают на каждый взрыв, держат в себе своё тепло, не вымерзают, выгревают подле себя чёрные лунки, в которых темно зеленеет старая трава. Кора, влажная и беззащитная, оставляет на тебе, если её коснёшься, пятна этого тёмного едкого сока, словно это краска, словно кровь из надрезов. А за дачами, тянущимися вдоль русла мелкой промышленной речки, заросшей камышом, едва разглядишь ограду ремонтного завода, лежащего в балке, а балка, полная дождя и тумана, выгибается в сторону города, и воздух становится таким плотным, что дальше уже не видно ничего, но там тоже что-то есть, больше того: там всё только начинается, там начинается город. И ещё, последнее: сбоку, на горизонте, где свет неба отливает молоком и оловом, стоят трубы комбината — высокие, холодные, мёртвые. И главное, нигде ни одной птицы. Как будто здесь был великий голод и всех птиц съели. И среди всего этого находится линия фронта. Настоящая линия фронта. И если раньше, пока город был в осаде, Паше ни разу не выпадало её пересечь, то вот сегодня, похоже, пересечь её, эту линию фронта, придётся. Ну что ж, успокаивает сам себя Паша, ну что ж.
+
Последний раз Паша ехал на такси месяц назад, возвращался из города. Дорога простреливалась, но все думали, что если ехать быстрее, то шансов погибнуть меньше. Они стояли на выезде из города, возле пустой заправки, тёмной испуганной стаей: Паша и несколько женщин, что возвращались домой, на станцию, обвешанные сумками, как грехами. Их долго никто не хотел брать, наконец затормозил и замер посреди лужи жигуль, одна из женщин махнула водителю, мол, подъедь ближе, неудобно пробираться по воде, но водитель так отчаянно начал кричать, что все молча полезли в воду. Он так и кричал всю дорогу, рванув от заправки, выскочив в поле и гоня машину по чёрным угольным просторам между городом и станцией, ни на мгновение не сбавляя скорости и не включая фар, мчал и костерил, как умел, несчастных женщин. А они в ответ кивали молча головами, будто со всем соглашались, похожие на богомолок в церкви: пришли каяться, вот и каются теперь, чего же не каяться, раз пришли. Паша даже хотел перебить шофёра, заступиться за женскую честь, но не перебил, не заступился, а выходя, ещё и переплатил.
+
Дорога разбита настолько, что по ней ездят разве что из уважения к её прошлому. С тем же успехом можно ездить по чёрному раскисшему грунту. Но игуана-таксист, похоже, эту дорогу знает, как собственное тело: где нужно — почешет, где болит — надавит. Когда на обочине появляется большой деревянный крест — с энтузиазмом крестится. При этом бросает недовольный взгляд на Пашу, будет тот креститься или нет? Паша делает вид, что ничего не замечает. На развилке и внизу, перед мостом, стоят брошенные блокпосты, словно разорённые кем-то птичьи гнёзда. Домашняя одежда, посуда, газеты, разбитые армейские коробки, растерзанные ветром мешки с песком — всё сиротливо лежит под открытым небом, забивается в грунт, смешивается со снегом и илом. Проезжая блокпост, игуана каждый раз напрягается: никто не знает, что оставили после себя те, что гнили тут последние месяцы, что именно может обнаружиться в их норах. Да и чьи это блокпосты — теперь тоже не поймёшь: всё выжжено, выбито осколками, деревья вокруг похожи на мачты рыбацких лодок — острые, высокие, вовсе без ветвей. Но особенно страшно проезжать по мосту — это объект стратегический, а каждый стратегический объект вызывает желание сразу же его подорвать, высадить в воздух вместе с теми, кто решился по нему, по объекту этому, двигаться. Игуана аж глаза закрывает, выезжая на мост. И Паша, увидев такое, тоже прикрывает веки. Так и едут какое-то время, вслепую. Страх — штука невидимая, но всеохватная: будто и не наблюдается никакой угрозы, вокруг тихо, и небо вверху отсвечивает металлическими пластинами, но само лишь сознание того, что ты на мушке и что въебать может в любое мгновение, независимо от оттенков неба и движений в нём, делает всю ситуацию уж совсем неуютной, хочется и дальше сидеть с закрытыми глазами и считать, скажем, до ста, пока от тебя уберутся подальше все окрестные монстры.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу