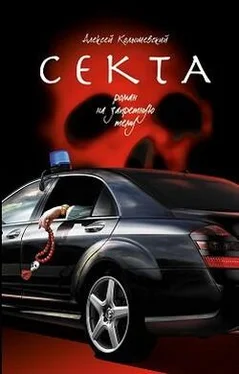… – Я что-то в толк не возьму, Леонид Семенович, дорогой. Ведь Лемешев-то начальником в Экспедиции никогда не был! – Сеченов выглядел очень серьезным и слушал внимательно, не проронив ни слова. И только теперь, когда допрашиваемый им искусствовед, перевезенный по распоряжению генерала в Москву и сидящий сейчас в камере секретной подмосковной тюрьмы «Домодедово-3», сделал паузу, генерал задал свой первый вопрос. У искусствоведа пересохло в горле.
– Дайте глоток воды. Пожалуйста, – старик провел языком по пересохшим губам.
– Воды нет. Хотите кусок яблока? В нем витамины, фруктоза – питает мозговые клетки. – Сеченов отрезал от яблока аккуратную дольку, вышел из-за стола, подошел к старику и положил тому дольку в рот. – Вам сейчас нельзя заговариваться, а вы начали, как вижу. Так при чем тут Лемешев?
Старик прожевал яблоко, с трудом сглотнул, перевел дух и ответил:
– Платон Лемешев был тайным советником и действительным руководителем предтечи вашего же родного учреждения. На бумаге Тайной экспедицией управлял кто-то другой, я сейчас не вспомню его фамилии, кажется, Макаров или… Нет, не помню. Но он в любом случае был номинальной фигурой. Всеми важнейшими вопросами Лемешев занимался лично.
– Вы уверены?
– Я хорошо помню архивные документы.
– Хорошо, допустим. Продолжайте, пожалуйста.
…На престол российский взошел Павел. Вернее сказать, не взошел, а дорвался до власти. Мечтал перевернуть все с ног на голову, был ненавидим собственными дворянами и платил им тем же. Лишь Платона Лемешева, ставшего монарху лучшим другом, он по-настоящему боготворил, слушался его во всем, и мог Платон Никитич бывать у императора запросто и во всякое время.
И вот однажды, а было это на рождественской неделе следующего года, за картами, во время особенно удачного виста, Павел вдруг, совершенно, как ему казалось, неожиданно, задал Лемешеву вопрос, которого тот давно ждал:
– А все же, господин генерал, откуда тебе наперед было точно известно о кончине моей матушки?
Слово «матушка» Павел произнес со злой издевкой и злорадно улыбнулся: мать ненавидел всю свою жизнь, и теперь, после ее смерти, это чувство в нем не угасло, словно питаемое от тлеющей ветоши собственной его, Самодержца Всероссийского, души.
– Ваше Величество, предугадывать дела такого рода есть моя служебная обязанность перед Вашим Величеством, – Лемешев преданно поглядел на императора и скинул даму пик.
– Это весьма похвально, – Павел задумчиво посмотрел на карточный столик, искусно набранный из драгоценных палисандровых плашек, и накрыл даму тузом. – Ваша дама убита, – сказал он, на минуту задумался и, вдруг просияв, воскликнул: – Вот фраза, изрядная для сочинителя находка! Ах, как бы и я хотел что-нибудь сочинить на манер Плутарха или Гомера. Да… Так вы говорите, что предугадали сие? А знаете ли вы древнюю мудрость восточную о том, что ложь в малом дает неверие в большем, любезный мой Платон Никитич?
Лемешев густо покраснел (еще и не то умел на лице выделывать) и извинительным тоном ответил:
– Простите меня, Государь. Я не хотел трогать ваш напряженный государственными хлопотами рассудок этою малостью, но вы и сами будто прорицатель. От вас невозможно утаить ничего даже мне, тайному советнику. Есть один монах. Невежда из мужиков, но говорит он так, словно бы и сам видел те чудеса, о которых рассуждает. Он и касательно покойной Императрицы сделал предсказание. От него ведаю о некоторых будущих днях.
Павла словно подбросила вверх невидимая сила. Он вскочил и принялся по своему обыкновению бегать по карточной комнате, натыкаясь на низкие голландские кушетки:
– Как?! Как же вы могли столь долго ни о чем этаком мне не сообщать?!
Лемешев со спокойной рассудительностью парировал:
– Ожидал, пока улягутся страсти, Ваше Величество. Да и людишек Куракина, прокурора нынешнего, опасаясь, перевез моего монаха в надежный приют, дабы человек Божий ни в чем не нуждался и мог записывать свои видения.
Павел прекратил свои метания по комнате, замер, топнул ногой и властно распорядился:
– Ко мне того монаха доставить, не медля ни минуты! Желаю самолично его допросить! Знать желаю, что ждет меня и род мой!
…Авеля император принял тайно, аудиенция проходила в одном из покоев Гатчинского дворца. Павел не любил Зимнего, чурался его всю жизнь, помнил об унижениях, там полученных от многочисленных маменькиных насмешников, которых та отмечала своим благоволением. Особенно Потемкина, «мерзавца Светлейшего-наипервейшего», ненавидел Павел люто и мстил ему даже и после смерти, повелев навечно укрыть останки великого государственного деятеля от народного поклонения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу