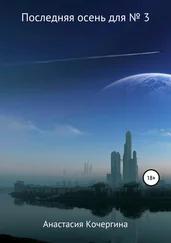Погибли старый приходской кот и настоятель, заночевавший в келье в обнимку с бутылкой виски. Отец Гантера говорил, что и того, и другого Господь благословлял ежечасно. Та к бывает с теми, кто совсем себя не бережет. Наперекор пословице. В горемычного кота два раза попала молния, а на Новый год дети привязали ему на хвост бенгальские огни. Хвост облез, шерсть стояла дыбом, круглые проплешины сверкали, но Феликс хоть бы хны. Настоятель Дюмон прославился оптимистичным алкоголизмом — так называл его дурную привычку отец Гантера. Невзирая на обстоятельства, Дюмон продолжал пить и после первого инсульта, и после второго. Его дочь утверждала — все из-за твердой веры в Бога, с которым не страшна смерть. После второго инсульта Дюмона вместе с полным баром, где не хватало разве что индонезийского арака, обнаружили в объятиях грудастой негритянки на полу приходской. Словом, в отличие от многих, настоятель жил, а не выживал.
Заворачивать за дом Гантер не хотел, хотя и знал, что это необходимо, как необходимо бывает поднять простыню и опознать труп любимого человека. Уголок серо-белого дома чуть-чуть раскрошился под пальцами, когда Гантер прикоснулся к нему, собираясь с силами, чтобы выглянуть — вот оно, место, где тысячи людей желали друг другу мира и добра — черное место, разваленное место, ни одной стены. Гантер вдруг вспомнил, как рыдал в детстве, когда пришлось переехать со старой квартиры. В первую ночь он лежал в только что купленной кровати и плакал несколько часов. Мама не плакала — она впала в депрессию. Новая квартира была гораздо лучше, но в ней часы только начинали тикать, а самое важное оставалось там, где Гантер и мама долгие годы чувствовали, как проходит время. Может быть, прежнюю церковь заменят, отстроят великолепный храм, и отец там будет служить, а Гантер помогать ему, но пока на месте развалин Гантеру виделась лишь необъятная дыра, наполненная тьмой, черные бассейны Михаэля Арада и Питера Уолкера. Гантер поймал себя на мысли, что не хотел бы видеть здесь больше ничего, кроме мемориала, или вообще ничего, и встревожился — если террор будет продолжаться, а люди так обезумят от горя, что не захотят менять старое на новое, мир превратится в одну сплошную воронку, где все исчезнет.
Наверное, те люди, те, которые представлялись Гантеру черными, словно обугленными, с редкими светлыми пятнами на коже и пестрыми, кроваво-красными и оранжевыми, синими — на одеждах; люди, которые в воображении Гантера всегда держали автоматы, интересные, разнодетальные, мощные — в магазине игрушек таких полным-полно — эти люди даже не задумывались о том, что когда-нибудь смерть, возможно, станет просто неактуальной. Наука шагнет далеко вперед, и нельзя будет никого взорвать, сжечь, уничтожить полностью. Как подобный прогресс себя проявит, Гантер не мог предположить, но почему-то ему казалось, что люди найдут способ себя сохранять. Смерть не исчезнет совсем, мужчины и женщины, вероятно, продолжат в некотором смысле испытывать потребность в упокоении — временном или бесповоротном, но стереть их с лица Земли против воли окажется чрезвычайно сложно. Убийства сделаются до такой степени невыгодными, что человечество будет вынуждено иметь дело с чисто теоретической ненавистью, не регулируемой физической силой. И тогда придется думать. Мысли и переживания выйдут на первый план, потому что самый актуальный метод борьбы с непониманием — метод смерти — катастрофически устареет. Автомат Калашникова перевоплотится в детский водяной пистолет. Мучаясь ненавистью, человечество будет буквально сходить с ума, денно и нощно заниматься психоанализом, распухать от мыслей, от внутренних открытий. И в конце концов, прокручивая страницы старых новостей, дивясь фотографиям дымовых завес, огня, раздробленных костей и мягких тканей, извлеченных будто из мясорубки, крови и фекальных масс, булькающих, как теплая подливка к мясному рагу, в чьем-то распоротом животе и вместе с поразительно скрученными, как трубы Центра Помипиду, кишками, вываливающимися наружу, кто-нибудь все-таки решит кого-нибудь понять. Люди начнут говорить.
Гантер внезапно почувствовал, что ему нужна остановка, а, может быть, остановка нужна всем. Как будто едешь-едешь на скоростном поезде да и сошел с него, стоишь на платформе, ничего не делаешь, просто смотришь вперед. Тишина. Птички чирикают. Медленно проходит простое разреженное время. Раз… два… три… четыре… бесконечно долго… пять… шесть… семь… вздох… восемь… восемь… восемь…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Анастасия Петрова - На пороге Будущего [СИ]](/books/393625/anastasiya-petrova-na-poroge-buduchego-si-thumb.webp)
![Анастасия Петрова - Наверно, я еще маленький [litres]](/books/395673/anastasiya-petrova-naverno-ya-eche-malenkij-litres-thumb.webp)
![Илана Мьер - Последняя песнь до темноты [ЛП]](/books/396320/ilana-mer-poslednyaya-pesn-do-temnoty-lp-thumb.webp)

![Анастасия Петрова - Свободная страна [litres]](/books/433700/anastasiya-petrova-svobodnaya-strana-litres-thumb.webp)