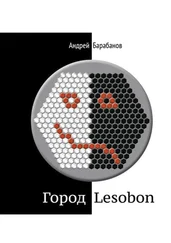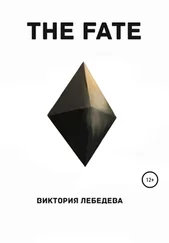— Да ну вас! — буркнула Женька. — Сами на ушах сидите целыми днями — экономь да экономь. А как что, так сразу…
Она подобрала рюкзак и скрылась в кухне.
— Тебе мальчик звонил, — сказала Татьяна Александровна.
Женька мгновенно высунулась из кухни:
— А какой?
— Это тебе лучше знать. Спрашивал, когда вернешься.
— А ты чего?
— А что я… Сказала, не знаю.
— Да ну тебя, — опять буркнула Женька. Явно она расстроилась и теперь будет умирать от любопытства, пока мальчик не позвонит снова.
«А ведь он, пожалуй, не позвонит, — подумала Татьяна Александровна. — Напугала. Нервы ни к черту».
Раньше она такой не была. Там, в Усть-Илиме, один про нее так и говорил: «Гвозди бы делать из этих людей». Смирнов, кажется. Или Сидоров — простая какая-то фамилия. А дружок его, Юрчик Бойко, поправлял: «Не гвозди, а сваи. На черта нам гвозди-то, на бетоне». Она гордо проходила мимо, обдавая приятелей презрением, но все-таки немного обижали эти глупые хаханьки.
Коллектив не принял Таню. Она, впрочем, заметила это не сразу. А когда заметила, никак не могла понять причину. Гадала, мучилась — так и не поняла. И как бы удивилась, если б узнала — и тут виною танки в Праге. На третий месяц работы, в случайном общем разговоре, в столовке за стаканом компота из сухофруктов Таня обмолвилась про сестру-предательницу. К слову пришлось. Она не хотела быть резкой, в ней говорила боль. Это был жест доверия к людям, с которыми предстояло бок о бок провести не один год и съесть, может быть, пуд соли, она хотела поделиться своей бедой. Но стоило ей заговорить, высказать мнение, искреннее, хоть и почерпнутое из советских газет, стоило назвать дураками московских демонстрантов, как разговор забуксовал, все вдруг заторопились, начали доедать-допивать и разбежались по делам, а Таня осталась одна со своим компотом. Ей досталась сморщенная груша с бурым хвостиком да горсть разваренного изюму — и она, поскольку ела уже за двоих, обрадовалась этому нехитрому лакомству… Она не удивилась, что разговор внезапно оборвался. Ей и самой было неловко за сестру. Что про других говорить.
Начиналось странное время. Когда самый распоследний диссидент, невзирая на все возможные риски, включая юридический, легко находил единомышленников и сочувствующих, а правоверные комсомольские романтики вроде Тани оказывались в изоляции — словно школьники, которые насолили всему классу, и им объявили бойкот.
Позже напишут в мемуарах и покажут в документальных фильмах — что шестьдесят восьмой стал годом перелома, годом избавления от последних иллюзий. Но Таня, пропустившая оттепель со всеми ее надеждами, прозубрившая ее за школьной партой, так и останется непрозревшей — это часто случается с людьми, слишком уверенными в собственной правоте и не умеющими слушать, наблюдать и делать выводы. Она отстанет от времени на каких-нибудь пять-десять лет — да так и не догонит. Максимализм и упрямая инфантильность не дадут ей сделать циничную комсомольскую карьеру, присосаться к благам. Только в начале девяностых Таня признается себе, что прожила нелепую жизнь и осталась у разбитого корыта, как старуха у Пушкина, которая пострадала тоже от великого самомнения, а не от жадности. Но это случится позже, а пока Таня сидела в столовой, ела разваренные сухофрукты алюминиевой ложечкой — и все у нее было впереди, и хорошее, и плохое.
А потом родилась Наташка, и веселье кончилось. Толя на радостях развязал — и не смог остановиться.
Как чувствовала, она не хотела ехать рожать в Братск, но диагностировали тазовое предлежание, ехать пришлось, пришлось соглашаться на кесарево. Наташка родилась крупная, почти четыре кило. Швы заживали плохо, Таня нервничала, Наташку приносили в палату на кормление орущую и обиженную, и другие мамочки только косились — их дети спокойно спали, пока не начинали есть, а едва насытившись, засыпали снова, одна Наташка ревела, как иерихонская труба.
Толя никак не ехал. Таня мысленно уговаривала себя, что это из-за работы, что в выходные заберет их с дочкой. Но в субботу вдруг явился смущенный Юрчик Бойко. Таня сошла с крыльца на ватных от дурного предчувствия ногах, Юрчик помог спуститься, ловко забрал Наташку — у самого было два пацана, он хорошо умел обращаться с грудниками. Наташка, по счастью, спала, но даже во сне голодно причмокивала и хмурилась от солнышка, бьющего в лицо.
— Ты это… не бери в голову… — смущенно пробормотал Юрчик, усаживая Таню на заднее сиденье «Волги» и подавая Наташку. Наташка недовольно пошевелилась, пискнула, но не проснулась.
Читать дальше