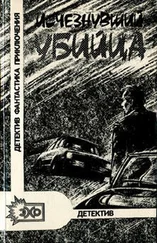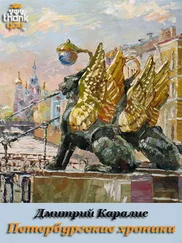– Рассказывай! – с набитым ртом сказал отец.
– О чем? – ставя графинчик и накалывая на вилку кружок огурца, спросил я.
– Так! Не о чем? – Отец отложил вилку, серьезно и внимательно посмотрел на меня.
– Работа есть, деньги тоже, – жуя огурец, сказал я. – Кулагин, Колька, помнишь, я про него рассказывал, стал моим агентом. Привозит клиентов. Делает рекламу. Навязчив, правда. Иногда прилипнет – не отлепишь. Но помогает. Этого не отнять.
– За сколько?
– Что – «за сколько»?
– Сколько он берет себе?
– Честно говоря, не знаю. – Я нацелился вилкой на ломтик ветчины. – Берет сколько-то. Он же работает. Да мне плевать.
Отец чуть наклонился вперед.
– Бабы?
– Что – «бабы»? – Ветчина сорвалась, мне пришлось ткнуть еще раз, и теперь сразу три ломтика стали моей добычей.
– Не жалуются?
– На что?
– Притворяешься? Косишь? – Лицо отца заострилось, губы поджались: такая гримаса говорила о том, что отец начинает сердиться. – Ладно, коси дальше. Значит – щелкаешь, скоблишь и ни о чем не думаешь? Ну-ну.
– Не так уж и скоблю. Заказов на ретушь практически нет. Если и попадаются, то в основном подправляю, убираю изъяны, исправляю неточности.
– Знаешь, – вполголоса заметил отец, – твой дед, лучший фотомастер их императорских величеств государя императора и государыни императрицы, ателье М.И. Грибова, фотографа Императорского Российского общества спасания на водах, Москва, Волхонка, дом семь, ретушеров считал лакеями.
Он посмотрел на свою рюмку, перевел взгляд на мою.
– Родоначальник ретушерской традиции – я, – обращаясь к рюмке, сказал отец. – Основатель. А ты – преемник. Продолжатель. Жаль, что я не успел открыть свое дело. «Миллер и сын». Неплохо звучит, а?
– Неплохо, – согласился я.
Несколькими минутами раньше, услышав, что стиральную машину выключили, я начал готовиться к встрече с так преобразившей отца женщиной. И был готов увидеть какую угодно, но – не такую. Бросив первый взгляд на нее, я тут же посмотрел на отца.
Мой отец просто-таки буравил взглядом. Вопрос: «Ну как? Хороша? Узнаешь?» – читался во всем его облике. Я кивнул: да, хороша, да, узнаю! – и поднялся со стула:
– Здравствуйте… – проговорил я.
Лиза! Повзрослевшая лет на десять-двенадцать Лиза стояла передо мной. Только укрупнившиеся груди, выпиравшие под забранной в джинсы майкой, чуть заострившийся подбородок да ставшие полнее бедра были другими, а все остальное было Лизино. Высокие северные – кто-то из ее бабушек-дедушек был то ли из Швеции, то ли из Норвегии – скулы, словно падающие с узкого бледного лица глаза, высокая тонкая шея. И – диссонансом – полные яркие губы. Красивая? Нет. Но такая, что взгляд оторвать было невозможно. Хотелось поймать ее за руку, притянуть к себе. Хотелось спросить: «Где ты была столько лет? Почему не давала о себе знать? Ты меня разлюбила? Забыла? Это же я, Генрих, Гена!»
Что бы она ответила? Думаю – ничего. Думаю – она промолчала бы. Недоуменно взглянула бы на меня и так же спокойно уселась бы на свободный стул и взяла наполненную рюмку.
Прототип тоже была удивительно уравновешенной. Внешне, до определенного предела. Временами казалась даже холодной, лишенной эмоций. Полные губы всегда плотно сжаты, и только крылья тонкого носа выдавали настроение.
Лиза, моя любовь!
Любовь с первого, нет, с третьего класса – они переехали в наш дом осенью 64-го. Человек, изъятие которого из мира навсегда сделало мир неполным, ущербным. Пустота, образовавшаяся после ее ухода, оказалась невосполнимой. Других таких не было и не могло быть. Все остальные были заменяемыми. Функциями, образами, ролями, но не такими.
Она уселась. Ключицы ее поднялись и опустились, маленькая родинка, Лизина, точь-в-точь Лизина, появилась и спряталась в надключичной ложбинке.
Эта родинка должна была еще помнить мой поцелуй. Ведь мои губы поднимались к губам Лизы постепенно: впервые я поцеловал ее в подъем ноги – мы соревновались, кто быстрее бегает, она подвернула ногу, я пытался успокоить боль; потом была родинка – она не хотела отдавать учебник по алгебре, мы начали бороться; и только летом, после девятого, после каникул, губы – встретились вечером во дворе, возле арки, она сказала: «Привет!» и поднялась на носках.
Я помнил вкус тех трех поцелуев. Пыльный, потный и со вкусом барбарисового леденца.
Но лучше всех, конечно, леденцовый. Два потомка нордических предков. Школьник и школьница. Оба, как потом мы признались друг другу, истомленные онанизмом.
Читать дальше