Ну что… Без долгих сборов, как были… еды только кой-какой прихватили и все — удрали. Добрались до станции, забрались тайком на платформу с тюкованным сеном и… отправились воевать.
Ехали хорошо… Лето… тепло… Смастерили себе там в сене хибарку… Словом — не война, а войнушки… детский сад, честное слово. Да… Ну и доехали мы так до станции Котлубань… А там промзона повсюду, военные предприятия… как раз те, что работали на Сталинград, победу ковали… военизировано все. Помню, рельсы будто тянутся в каком-то яру, а по бокам бетонные стены с блиндажами, со штабами, с огневыми точками… Ну и что… на станции нас обнаружил патруль, снял с платформы и отвел в один из штабов.
Там, помню, довольно уютно было, мирно… какие-то связные постоянно приходили, отдыхали, кушали, сменяли друг друга… словом, прифронтовая жизнь, но относительно спокойная, размеренная… Принял нас какой-то комиссар, приветливый на удивление, все расспрашивал меня, кто я да откуда… косички мне даже заплетал, помню… такой симпатичный мужчина… Ну вот мы с ним общались, а тем временем привели пленного немца и еще принесли его портфель кожаный. Оказалось, этот немец — инженер, специалист по строительству мостов… А комиссар уже знал, что я по-немецки шпарю, и говорит: «Ну, ты пообщайся с ним, там — о доме, о семье расспроси… а я пока документы его посмотрю…».
Ну мы с этим немцем и разговорились. А он оказался не немец даже, а ингерманландец — это такая группа этническая: мужчины все белокурые, рослые красавцы с голубыми глазами… Раньше таких в гренадеры брали… Ну и этот тоже видный был, да и просто человек приятный. Христофером звали, как сейчас помню… Как-то мы с ним быстро разговорились… и уже через полчаса пели вместе «Лорелею» Гейне… Как-то он со мной, ребенком, общаясь, приободрился малость… подумал, может, что все обойдется.
А надо сказать, в это время от Берии было указание среди пленных немцев искать специалистов по ракетному делу… нам это сам комиссар рассказал еще раньше. И вот он документы этого немца просмотрел, отложил их и так мимоходом говорит: «Нет, этот нам не нужен, придется его расстрелять…».
А я как услышала — у меня аж сердце зашлось. Я к этому комиссару так и кинулась.
— Вы что, — говорю, — как это расстрелять? Пленных нельзя расстреливать…
Тут у него лицо изменилось. Каменное такое стало, глаза стальные. И говорит мне сквозь зубы:
— Что, родная кровь взыграла? Да я вас обоих сейчас…
Ну, тут братья мои поняли, что дело дрянь, и давай за меня заступаться:
— Да вы, — говорят, — товарищ комиссар, ее не слушайте… девчонка, что с нее возьмешь…
Он и говорит тогда:
— Значит, так, я вас, хлопцы, возьму, а этой пигалицы чтобы и духу здесь не было. Отведите ее на станцию и отправьте домой.
Ну, делать нечего. Повели меня на станцию. А тут бомбежка началась, и вот мне осколком разрубило ухо, видите — шрам до сих пор остался. На станцию прибежали, а с меня кровь хлещет. Смотрим — какой-то эшелон, рядом женщина-врач, мы к ней… Она меня затащила внутрь, рану обработала и стала зашивать… А тут состав тронулся, братья едва успели спрыгнуть и толком ничего обо мне не рассказали. Вот так я домой поехала… Сижу… голова бинтами замотана, как шлем у танкиста… отвоевалась, значит.
Тут стали у меня допытываться: кто я и откуда, а я молчу… Не хочу домой, и все. Решила остаться в поезде, помогать раненым… Так мы Новосибирск и проехали… ночью, кажется. И дальше поехали… Наконец добрались до Красноярска, и здесь решили меня все-таки сдать в милицию. И вот врач эта, которая ухо зашивала, ведет меня по городу и плачет. «Я, — говорит, — из-за тебя на поезд опоздаю… и откуда ты навязалась на мою голову». Идет быстро, я за ней едва поспеваю, и вдруг — остановились…
Я как малявка первым делом вижу перед собой ноги: мужские… без носков, в парусиновых туфлях поношенных, дальше — брюки холщовые из самой простой, грубой ткани, а сверху такая рубаха… знаете, как Толстой носил, и перепоясана веревочкой плетеной. Борода и волосы седые, помню, обстрижены как-то грубо, небрежно… Видно, что не до парикмахерской человеку… Вот это, как выяснилось позже, был святитель Лука… Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий — известный теперь святой, архиерей и хирург. А тогда оказалось, что докторша моя — его ученица и они не виделись давно, так что обнялись и давай плакать… Столько, видно, накопилось в душе, что только слезами и выскажешь…
Вообще, первое, что меня поразило, — это его глаза: грустные такие, страдающие. И еще, он как-то все время озирался, точно боялся, что его сейчас отругают, накажут за что-то. И мне вдруг его так жалко стало, что я возьми и ляпни:
Читать дальше
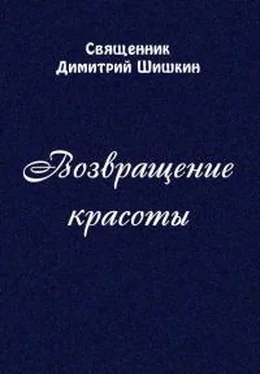



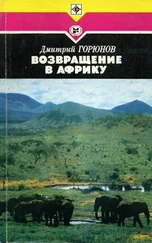
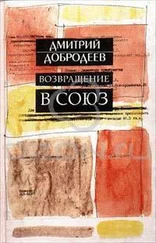

![Дмитрий Янковский - Возвращение волхва - Против тысячи втроем [СИ]](/books/432391/dmitrij-yankovskij-vozvrachenie-volhva-protiv-tysyach-thumb.webp)




