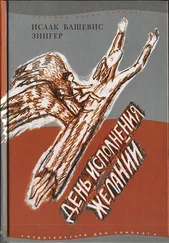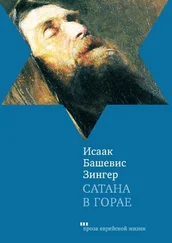— Ко всему привыкаешь. Я дома, на плите, черепа вываривал…
Известия о Люциане оказались печальными. Завадский твердил, что Люциан — бездельник, пьяница и психопат. Мариша с ребенком голодают, а он носится с идеями поступить в Иностранный легион или уехать в Америку. После обеда Завадский с графом сели играть в шахматы, и доктор выиграл три партии подряд. При этом оба дымили трубками и ругались на чем свет стоит, после каждого второго слова вставляли «psia krew!» [97] Грубое ругательство, буквально «собачья кровь» (польск.).
. Фелиции сразу не понравился этот щуплый плебейчик, собравший все недостатки ее отца. Ей хотелось, чтобы доктор поскорее ушел, но граф предложил ему остаться на денек-другой. После трех поражений в шахматы Ямпольский пошел наверх спать, а Фелиция отправилась побродить по полям Калмана Якоби. Вдруг она увидела, что навстречу движется Завадский. Он сжимал в руке суковатую палку.
— О, это вы! — Доктор даже не спросил разрешения ее сопровождать. Он шагал рядом, как старый знакомый, и рассказывал о себе. Учиться он начал в Кракове, но перессорился с коллегами, потому что был против восстания. Ведь сразу было ясно, что это глупость, самоубийство. Завадский называл генерала Мерославского [98] Генерал Людвик Мерославский (1814–1878) в 1863 г. был объявлен диктатором восстания, но вскоре потерпел сокрушительное поражение и бежал в Париж.
шарлатаном, а князя Любомирского, который вел дела с польской военной школой в Генуе [99] Польская военная школа действовала в Генуе в 1861–1862 гг. Подготовила около 400 инструкторов, участвовавших в организации военных действий против русской армии.
, — карманником, и смеялся над сыном Мицкевича, которого считал жалким отродьем великого отца. Он ни во что не ставил даже князя Чарторыйского [100] Князь Владислав Чарторыйский (1828–1894) — политический деятель в эмиграции. Считал восстание преждевременным, рассчитывал на военную помощь западных держав и добивался ее получения.
. Все это восстание, твердил Завадский, нелепая авантюра, которую затеяла банда сентиментальных идиотов, безответственных паразитов и их кровожадных жен. Фелиция была потрясена. Таких проклятий она не слышала даже от своего грубого отца. От политики Завадский снова перешел к себе. Ему пришлось странствовать по разным университетам, поэтому он припозднился с медицинской карьерой. Мало того, Наполеон III начал дурацкую войну с Пруссией. Слава Богу, теперь он, Завадский, дипломированный врач. Он говорил с Фелицией то по-польски, то по-французски.
— Что станет с пани в этих развалинах? — спросил он. — Тут же с ума можно сойти.
— Я не брошу отца, — ответила Фелиция, сама не понимая, зачем поддерживает беседу с таким грубияном.
— Боюсь, ваш отец скоро впадет в маразм. Есть в нем что-то дегенеративное…
Фелиция очень хотела выругаться, но сдержалась. Все же неучтивость, видимо, не в ее характере.
— Как бы там ни было, он мой отец.
— Отец, ну и что? Вот я вернулся к своему папаше, несколько лет не виделись. Расцеловались, поболтали минуты три, и все. Скучища!
— А с кем пану не скучно?
— Да, пожалуй, со всеми скучно. Некоторые собак любят, а я терпеть не могу. Собака — льстец, подлиза. Мне больше канарейки по душе или попугаи. Обезьянки тоже забавные.
— Все животные по-своему интересны.
— Они хотя бы глупостей не говорят. И умирают куда благороднее, чем люди. Люди цепляются за жизнь, будто она из марципана сделана.
— Необычное сравнение!
— Почему пани не замужем? — неожиданно спросил Завадский.
— Не берет никто.
— Я бы на вас женился.
Фелиция почувствовала, что бледнеет. Повернуться и убежать? Такой маленький человечишка, и такая большая наглость!
— Пан смеется надо мной.
— Да нет, что вы. Пани уже не молода, но и далеко не стара, красива. Вы присылали Люциану фотографии. Я с вами, так сказать, еще в Париже познакомился. И о вашей причуде знаю, Люциан рассказывал.
Фелиция закусила губу.
— О какой причуде?
— О вашей религиозности. Я слишком умных женщин не переношу. Имею в виду, хитрых. Пусть пани не обижается. Таков уж я, что поделаешь.
— Ну да.
— Собираюсь кабинет открыть. Надо жениться.
Фелиция опустила глаза. Она поняла: Завадский говорит серьезно. Впервые в жизни ей сделали предложение…
На Крохмальной девятнадцать, в квартире из двух комнат и кухни, жил Тодрес Данцигер, увечный сын синагогального служки. Когда-то он провел два года в Берлине, скитался по углам, мерз и голодал, но в конце концов вернулся в Варшаву, обучился ремеслу и стал пекарем. Его обучил мастер из Красныстава, где отец Тодреса был шамесом. Самого мастера уже не было в живых, пекарня перешла к его зятю, но Тодрес по-прежнему там работал. Замешивать тесто он не мог, и ему давали работу полегче: подкладывать дрова, наливать воду, подметать и присматривать за другими работниками. Женщины и девушки подсмеивались над ним, парни-поденщики давали прозвища. Все знали, что Тодрес — человек ученый, неплохо разбирается в Талмуде. Наблюдая за хлебом в печи, он листал журнал на древнееврейском, а иногда приносил немецкую книгу. Тодрес Данцигер трудился над комментарием к Пятикнижию. Он был учеником Янкева Райфмана. Варшавские просветители не раз пытались помочь Тодресу, найти для него уроки, но он не мог преподавать. Тодрес слегка шепелявил, и ученики его не уважали. Довелось Тодресу побыть и наборщиком, но он ушел из типографии, потому что его раздражали глупости и ложь сочинителей. Уж лучше иметь дело с тестом, оно не врет…
Читать дальше


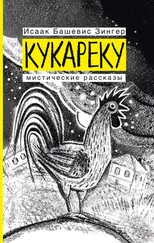

![Исаак Башевис-Зингер - Короткая пятница и другие рассказы[Сборник]](/books/148307/isaak-bashevis-thumb.webp)