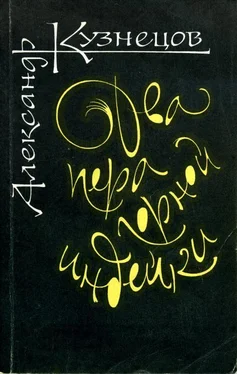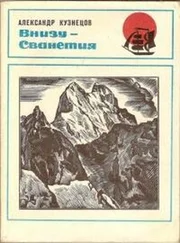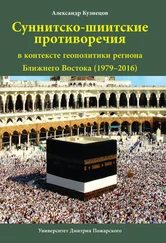Прошлой весной, о которой здесь идет речь, я выплыл в Вычегду. Дальше спускаться на плоту стало опасно: по Вычегде шел лес, как в плотах, так и молем. К тому же места пошли уже обжитые. Оставив плот, я на машине добрался до Коряжмы — молодого городка, возникшего на болоте вокруг огромного целлюлозно-бумажного комбината. Был я без собаки. Оладья ждала щенят, и жена моя категорически запретила брать ее в поездку.
Подкупив в магазине продуктов, я вернулся к реке и поставил палатку у бывшего монастыря, основанного в XVI веке Лонгрином Коряжемским. Когда-то этот монастырек и был собственно Коряжмой, а теперь он затерялся за большими домами и прямыми улицами города, затерялся так, что если сюда приехать не со стороны реки, а по железной дороге, то нипочем его не увидишь и даже не будешь знать о его существовании.
День выдался ясный и теплый. Иногда только ветер налетал порывами с реки, но мне в моей стеганке и ватных штанах он был не страшен. Купол церкви прекрасно смотрелся на фоне воды и голубоватой свинцовой дали. Где-то на том берегу Вычегды едва различался белый храм Сольвычегодска.
Неподалеку от того места, где я стоял перед мольбертом, какой-то человек красил моторную лодку. Вскоре он оставил свою работу и подошел ко мне:
— Можно посмотреть?
— Пожалуйста, — ответил я.
Ему было около тридцати, и одет он был так же, как и я, даже стеганка и ушанка у него, как и у меня, были вымазаны краской. Он долго сопел за моей спиной, чувствовалось, что ему хочется заговорить.
— Хорошо быть художником, — сказал он наконец.
— А вы кто по профессии?
— Инженер. Инженер по очистке вод и водоочистительным сооружениям.
Я рассмеялся.
— Ну вот видите, я тоже инженер и тоже имею некоторое отношение к гидросооружениям. Сейчас выяснится, что мы с вами вместе учились в Ленинградском политехническом, только я закончил его на несколько лет раньше.
— Нет. Я учусь на заочном отделении. Третий курс только. Скоро надо ехать сдавать.
— А родом откуда?
— Да местный. В Коряжме почти все местные, собрались из окрестных деревень.
Лицо его не было ничем особенно примечательно, если не считать карих глаз, как-то не очень сочетающихся с прямой русой челкой. Мощная шея, большие руки с короткими ногтями, слегка кривоватые ноги и вся его невысокая, кряжистая фигура говорили о физической силе. Он не обратил бы на себя внимания на Невском или на эскалаторе метро. Но здесь, на Севере, особенно после того, как ты долго пребывал в одиночестве, каждый человек становится для тебя откровением и ты тянешься к нему, как к близкому другу. Мы разговорились, и Григорий Петрович Адаров, так звали моего нового знакомого, пригласил меня к себе в гости.
— Что это вы будете на земле валяться, — говорил он, — когда дом есть, диван и все удобства. Хватит уж, попутешествовали, и будет.
— Во-первых, не на земле, — защищался я, — а на надувном матраце и в пуховом спальном мешке; а во-вторых, я завтра все равно уезжаю. Погода хорошая, и провести последнюю ночь над рекой — одно удовольствие. Так что спасибо вам большое, Григорий Петрович, но я, пожалуй, останусь в палатке. Приходите ко мне вечерком на чай. Посидим у костерика, потолкуем.
— Вас иконы интересуют? — спросил он вдруг.
— Иконы? А у вас есть иконы?
— Есть. Собираю. Вы, как художник, наверное, разбираетесь в иконах, а может быть, вам что-то подойдет. Да и мне интересно, глядишь, узнаю чего-нибудь!
Вот чего не ожидал, того не ожидал! Частная коллекция древнерусской живописи в Коряжме! Не в Ленинграде и не в Москве и не у художника или писателя, а у деревенского, в сущности, парня.
— Да, вы правы, в иконах я действительно немного разбираюсь и очень люблю древнерусскую живопись. Вы попали в точку. И большая у вас коллекция?
— Досок сорок есть, наверное.
— Сорок? — Это было немалое собрание, и среди этих сорока могли быть две-три интересные, а может быть, и драгоценные вещи. — И многие у вас собирают иконы?
— Нет, я один, — улыбнулся Григорий Петрович. — Я один такой во всем районе. Меня все психом считают, даже жена.
— Что же у вас есть? Скажем, самое старое? — не терпелось мне.
— Двенадцатый век есть, — проговорил он нарочито небрежно. В интонации этой прозвучало скрытое хвастовство. — А семнашек много, полно.
— Как вы сказали? Семнашек?
— Ну да, семнадцатого века.
«Семнашки». Надо же придумать... Насчет двенадцатого века он, конечно, тоже загнул.
Читать дальше