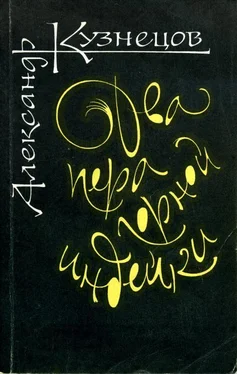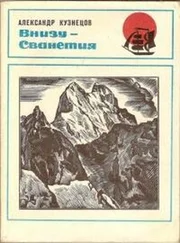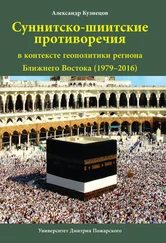— Что за мужчины пошли! Почему вы отказываетесь?! — наступала на него энергичная дама. — Что за пассивность?! Если вы мужчина, то вы обязаны позаботиться о женщинах!
— С величайшим удовольствием, — отвечал доктор, — но только не таким образом.
— Почему?!
— А вы не понимаете?
— Нет, не понимаю. Объясните.
— Потому что это неприлично, если хотите. — Не хотелось Романову этого говорить, но пришлось. — Гейченко пожилой, почтенный человек, так много сделавший... Сколько людей тут ежедневно? И если каждый...
— Эсфирь Омаровна, — перебил доктора Миша, — что вы с ним разговариваете? Не хочет — не надо. Обойдемся. Кто еще с нами?
Но «предводительница» не уступила ему инициативы, она сама выбрала еще трех женщин, и они впятером направились к небольшому домику, утопающему в цветах совсем неподалеку от дома Пушкина.
— Пойдем посмотрим издали, — предложила Романову Марина.
Но Владимир Савельевич поморщился и направился к озеру. Когда через четверть часа он вернулся, то нашел группу в большом возбуждении.
— Мы так этого не оставим, — разглагольствовал» Миша, — надо писать письмо в райком партии. Какое он имеет право оскорблять туристов? Какой диктатор нашелся! Сумасброд! Зазнался человек, пора его поправить.
— Что случилось? — тихо спросил у Марины Владимир Савельевич.
И, отведя его в сторонку, та рассказала, что пошла за ними, но в дом не входила, стояла поодаль. И вдруг они вылетели оттуда как пробки. Испуганные, красные... А там вот что: постучались они, вошли. Встретила их жена. Она спокойно и терпеливо объяснила, что полы в комнатах Пушкина не выдерживают такого наплыва туристов, что заходить и не нужно, все хорошо видно и так. Наши тетки вполне удовлетворились и стали благодарить великого Гейченко за большую заботу о памяти великого поэта. Но тут неожиданно выскочил из соседней комнаты и сам Семен Степанович. Оказывается, он все слышал. И так старик их понес, с таким напором, что даже Миша и Эсфирь Омаровна растерялись. Вы, говорит, паломники, а паломники должны молча и благоговейно смотреть на святыни. Иначе вы не паломники, а грязные туристы, недостойные входить в дом Пушкина. Вы должны быть благодарны и за то, что вас пускают в дом. В комнату Шекспира никогда никого не пускали, на нее смотрят через стекло. И что он никого не пустит в комнаты Пушкина, нечего ротозеям топтать святыни!
Эсфирь только рот откроет, только хочет возразить, а он идет прямо на нее и выставил всех, со ступенек летели.
Владимир Савельевич тихо и радостно смеялся.
И вот, ступая на поскрипывающие половицы, он вошел в этот дом, дождался, пока схлынет толпа «наших» перед дверями кабинета, что направо от входа, и заглянул в кабинет Пушкина. Ветхий неказистый столик, простенький письменный прибор, гусиное перо, зеленый колпак над свечой, потертое кресло. Просто, обыденно, буднично. Вопреки ожиданиям, ничего не произошло в душе доктора. Мир оставался тем же.
К трем соснам, которыми заканчивалась экскурсия, доктор шел молча. Он не слышал, как шагавшая впереди него Эсфирь Омаровна говорила своей дочери:
— Ты заметила, нет ни одного подлинного документа на стенах? Он выставил одни лишь копии, подлинники все спрятал. Одни ксерокопии. Обратила внимание?
— Да, да, — отвечала дочь, — кому подлинники, а кому копии. Маразматик старый! Самодур...
Марина догнала доктора и взяла его под руку.
— Слышали? — спросила она, когда впереди идущие отошли.
— Что?
— О чем они говорили?
— Нет.
— А вы послушайте.
На лице Владимира Савельевича отразилось страдание. Он помотал головой:
— Зачем...
А дочка тем временем говорила матери:
— И все-таки тебе повезло: ты не только в музее побывала, но и видела самого Гейченко. Можно позавидовать.
Подождали, пока от сосен отойдет другая группа, подошли к ограждающему три дерева забору, и экскурсовод стала читать стихи Пушкина о соснах на границе дедовских владений. Потом Миша затеял с ней спор и начал доказывать, что Арина Родионовна умерла не здесь, не в Михайловском, а в Петербурге. Говорил он с апломбом, и «наши» слушали его раскрыв рты. Владимир Савельевич с тоской смотрел на сосны, и вдруг ни с того ни с сего пришли строки:
...Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд.
Слова не прозвучали голосом свыше, они словно родились в самом докторе, в его душе и были вовсе не пушкинскими, а его собственными. Будто за ними ехал сюда за тысячу верст Владимир Савельевич, будто не мог вспомнить их в Москве. Вспомнить или придумать, родить заново? Нет, конечно, они были. И таились до поры до времени. «Они в самом тебе». Нет, это даже не Пушкин, это Евангелие, Новый завет. По каким же еще законам судить себя, если не по заповедям Христовым?
Читать дальше