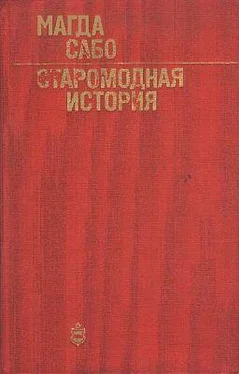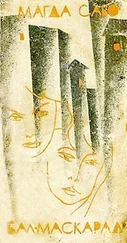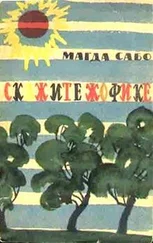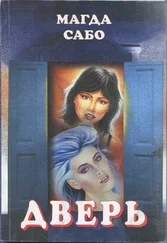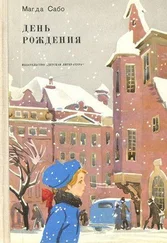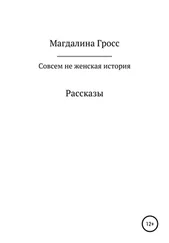Восполнить бабушку и мифических дядьев, к счастью, помогали прочие многочисленные родственники. Родовая фамилия, собственно говоря, у семьи была Петеш, но с незапамятных времен они пользовались дворянской — Яблонцаи. Много Яблонцаи жило в Эрдейе, в комитате Пешт, в Ясшаге, в окрестностях Комарома, в Дёндёше, в самом Пеште, была у них и кечкеметская ветвь; фамильное древо Яблонцаи было невероятно ветвистым, корни его уходили куда-то к Арпадам. Все началось с того, что Лайош Петеш-Яблонцаи взял в жены Терезу Чеби-Погань, в четырнадцатом колене прапраправнучку Анны, дочери короля Белы IV, [51] Бела IV — в 1235–1270 гг. король Венгрии; в период его правления Венгрия пережила татарское нашествие.
так что через пятнадцать поколений после татарского нашествия Яблонцаи могли с гордостью ссылаться на полторы капли Арпадовой крови, текущей в их жилах. Были они столь же различными — во всех смыслах этого слова, — сколь и многочисленными; ни в религиозных, ни в политических взглядах единства у них не было и быть не могло: ведь, скажем, Янош Яблонцаи, тот самый капитан упраздненного в 1876 году и преобразованного в комитат гайдуцкого округа, про которого так часто рассказывала нам с братом матушка, едва ли мог смотреть на мир так же, как другой, живущий в Ниршеге Янош Яблонцаи, который за год до того, как мистер Таунсон посетил Дебрецен, был сперва судебным заседателем, потом служил при дворе; если в конце семнадцатого века один из Яблонцаи шел на галеры за свои кальвинистские убеждения, то что общего мог иметь он с другим Яблонцаи, Лайошем, который спустя четыре года после появления «Бегства Залана» [52] «Бегство Залана» — эпическая поэма венгерского поэта-романтика Михая Верешмарти, опубликованная в 1825 г.
основал солидный фонд помощи римско-католическому приходу в городе Собосло. Были среди Яблонцаи крупные чиновники, было несколько офицеров, служивших в императорской армии — и в войсках Кошута; кстати говоря, восторженную свою любовь к Петефи [53] Петефи, Шандор (1823–1849) — великий венгерский поэт и революционер; во время буржуазной революции и национально-освободительной войны 1848–1849 гг. был одним из лидеров радикального крыла участвовавших в революции сил.
Ленке Яблонцаи унаследовала от деда, гонведского [54] Гонвед (букв.: защитник родины) — в 1848–1849 гг. солдат революционной армии, позже — вообще солдат венгерской армии.
офицера, который, как и поэт, его кумир, отправился в бой из Мезебереня. Двое эрдейских Яблонцаи, Йожеф Яблонцаи и его сын, погибшие в 1849 году, окончили жизнь точно так же, как Пал Вашвари: [55] Вашвари, Пал — революционер, историк, активный деятель левого крыла революционеров в 1848–1849 гг., соратник Петефи. В июле 1849 г. был убит в бою.
они были убиты румынами, и все, что осталось после них, — только герб да фамильная печать в библиотеке им. Телеки в Марошвашархейе. Детям Ленке Яблонцаи, пока они были маленькими, из всей семейной обоймы, кроме галерника, импонировал лишь гайдуцкий капитан: они любили его дворянскую грамоту, над привилегиями же его лишь посмеивались. В гербе капитана фигурировал плохо кормленный и, судя по всему, сдохший уже барашек, висящий, будто на бечевке, над каким-то зеленым полем; привилегии же капитана заключались в том, что — поскольку гайдуцкий округ имел собственный суд, обладающий «правом палаша», — по его слову приводились в исполнение смертные приговоры. Много-много лет спустя, давно уже вылетев из родного гнезда, мы с братом немало повеселились, обнаружив, что оба запомнили одни и те же подробности из слышанного в детстве. Брат, несколько лет отслуживший офицером, сразу заявил: «Палаш теперь мой!» Я же, у которой на писательском поприще вновь и вновь в том или ином виде возникал баран, [56] Среди книг Магды Сабо есть сборник рассказов «Баран» (1947) и стихотворная сказка «Болдижар Барань» (1958), «барань» по-венгерски — баран.
констатировала, что мне, видно, досталось гербовое животное, так что пусть каждый из нас хранит отныне свое.
Когда брат мой умирал, я сидела возле его постели. Он пытался что-то сказать. Слова его были неразборчивы, болезнь, не знающая снисхождения, сначала лишила его ног, потом ослепила и парализовала, а в тот день добралась до органов речи. Сын Ленке Яблонцаи с трудом артикулировал звуки, а то, что все же удавалось понять, походило более всего на прорывающиеся сигналы каких-то бредовых галлюцинаций — ведь нельзя же всерьез воспринимать из уст находящегося на пороге смерти человека такие слова, как «капитан» и «палаш». Но дочь Ленке Яблонцаи лишь кивала понимающе, расправляя одеяло на месте ампутированных ног брата, и видела перед собой былую его комнату, где они, сидя рядом на кушетке, делили когда-то наследство, — и вот в конце концов орудием в руках судьбы стал не капитанский палаш, а хирургическая пила, безрезультатно отпилившая ему ноги до самого туловища.
Читать дальше