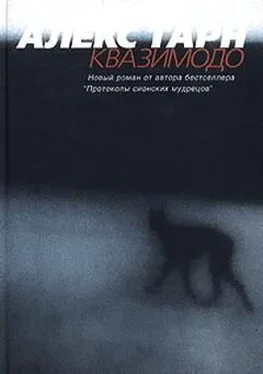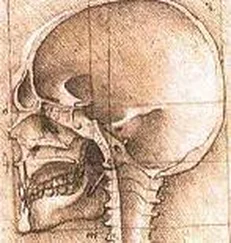И снова почти неразличимая тропинка вела их, на этот раз — вверх по склону, по жужжащему раю стрекоз, по охотничьим угодьям острых ящериц и быстрых змей с узорчатыми треугольными головами. В вышине медленно кружили коршуны, и дробно стучал невидимый вертолет.
Пещера открылась неожиданно. Заросшая кустами, она была совсем не видна с тропинки, и если бы не Квазимодо, Василий так и прошел бы буквально в шаге от входа, совершенно не заметив его. Но пес решительно ринулся прямо в гущу ветвей, таща за собою чертыхающегося хозяина. Всего лишь ценой нескольких царапин они оказались внутри прохладного полумрака, резко контрастирующего с яркой и пышной жарою, раскинувшей снаружи свои потные телеса. Пещера была пуста. Только относительно свежие окурки выдавали недавнее человеческое присутствие. Пока пес озадаченно обнюхивал пол, Василий уселся у входа и закурил, глядя сквозь путаницу ветвей на желто-зеленый склон горы напротив, на оливковые рощицы, на крутую петлю шоссе в дальнем конце ущелья.
Эта радость, это ожидание счастья — откуда они? Нет, не так… неправильный вопрос. Радость и счастье всегда были здесь, под самым его носом — только руку протяни, только зачерпни горстью световые пятна из вихрящегося желтого солнцеворота, только наполни уши шелестом и шепотом жизни, только насыть глаза улыбкой любимого рта, хрупкой линией запястья, легкими детскими локонами на подушке. Вот же оно, вот! Надо бы спросить по-другому: как же он так долго этого не видел, не замечал, а когда замечал — убегал сломя голову, как от огня? Почему называл это шелухой, мелкотравчатым мусором, пестрой поземкой ярмарочного конфетти? Почему он так боялся оторваться от своей черно-белой параллельно-перпендикулярной геометрии прямых линий? И почему именно сейчас — вдруг — прозрел?
Квазимодо сдержанно фыркнул, призывая его двигаться дальше. Подожди, псюха, дай докурить… дай понять… Да уж, загадка на сто миллионов. А может, он просто так поздно повзрослел? Может, в силу какого-то странного уродства сознания гражданина Василия Смирнова, процесс его взросления задержался на семнадцатилетнем уровне и, не сдвигаясь, продержался на одном и том же месте без малого двадцать лет? Лежал же Илья Муромец на печи… вот и он так же… Они выбрались из зарослей и продолжили движение тем же порядком.
Перевалив через гору, Василий взглянул на часы. Они шли уже не менее четырех часов, а его вожак и мучитель Квазимодо все еще не выказывал никаких признаков усталости.
«Нет, Квазиморда, так не пойдет, — объявил он, останавливаясь. — Ты меня совсем загнать хочешь, что ли? Когда назад-то?»
Пес нетерпеливо повернул голову и поскреб почву передней лапой. Он явно не собирался уступать. Василий огляделся. Внизу, по ходу движения лежало шоссе. Скорее всего это было продолжение того самого виража, который он видел из пещеры пару часов тому назад.
«Вот что, пес, — сказал Василий решительно. — Не знаю, как ты, а я спускаюсь к шоссе и иду по нему назад, как и положено двуногому существу, любящему жизнь и комфорт в ней. Понял? Хочешь — давай со мной, не хочешь — продолжай бить ноги по кочкам. Тебе легче, у тебя их четыре. Ты меня только донизу доведи, и все, отцепляюсь. Идет?»
Квазимодо проворчал в ответ что-то невежливое. Он тщательно принюхивался, высоко задрав голову, чтобы лучше поймать ветер и, видимо, совершенно не собирался принимать в расчет мелкие капризы хозяина.
«Экое заносчивое животное… Ну ничего, отольются пёске Васькины слёзки,» — подумал Василий, снова устремляясь вниз по склону вслед за собакой. Такими темпами они должны были добраться до шоссе не более чем через полчаса. Ну и ладно. Сегодня ничто не могло испортить его замечательно праздничного настроения.
Отныне все должно пойти решительно по-другому. Праздник бомжам он, конечно, устроит — не разочаровывать же людей… Но это будет прощальный банкет. Ага. Про-щаль-ный. Он проверил в памяти номер телефона… нет, не забыл. Позвонит и скажет, что все теперь будет иначе, что он — уже другой, не такой безнадежный дурак, которого она знала прежде, что он научился жить. И пусть это заняло целых двадцать лет, но зато его наука — не чета прочим. Быстро ведь только кошки родятся. Он теперь по жизни — Илья Муромец, вот кто. И черт с ними, с двадцатью годами — зато теперь у них такое счастье начнется — закачаешься! И она поймет, точно поймет, как понимала всегда. И дети…
Василий остановился вслед за неожиданно замершим Квазимодо. Они стояли примерно посередине склона. Вечер уже серебрил восточный край горизонта; небо меняло цвет, отражаясь в голубоватой ленте шоссе, по которому медленной букашкой полз патрульный армейский джип, вращая оранжевой мигалкой. Мир был красив и огромен. Мир был прозрачен, прост и чудесен, и Василий понимал его весь, до самого конца, насквозь проникая в его плавную текучую геометрию, становясь ее частью, ребром, плоскостью, объемом. У него захватило дух. Если до этого, оперируя своим прежним убогим подходом, он получал совсем неплохие результаты, то какие же открытия он сможет совершить теперь, вооруженный этой новой, цветной и многомерной геометрией! Ну все! Держитесь, нобелевские премии! Я иду! Василий выпрямился, сорвал с себя шляпу и, широко раскинув руки, закричал… и громовые раскаты его великанского баса, прыгая по склону, камнепадом скатились на дно ущелья. О-го-го!.. О-го-го-го!.. Я иду!..
Читать дальше