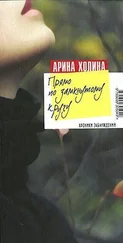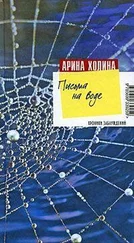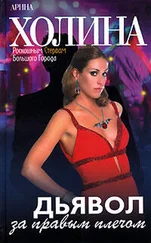Десять лет назад, в Париже, Костя напугал ее.
Они столкнулись за прилавком – на вытянутых руках Костя держал рубашку-поло.
В самом известном парижском магазине Настя съежилась от цен, но не смогла уйти отсюда без знаменитой стеганой сумки. Вид у нее был, как у одержимого игрока, заложившего за углом казино часы – и заранее проигравшего.
Костя бросил рубашку, пошире распахнул объятия и устроил настоящее представление.
Он купил двести пятую или трехсотую рубашку-поло, а заодно и сумку – только не черную, а белую.
– Почему? – пискнула Настя.
Костя оглядел ее с ног до головы (наверное, усвоил этот прием у ньюйоркских модников), фыркнул и произнес:
– Дорогая… Черная сумка означает, что у тебя есть деньги. Белая – что у тебя есть вкус и смелость.
– Где ты этого нахватался? – веселилась Настя, после того как они вытряхнули содержимое из старой, безымянной сумки, и пристроили его в новую.
Костя жил с полгода в Нью-Йорке, где не было работы, но все его обожали.
– Предлагали сниматься в порно, – хвастался Костя. – Я согласился, мне просто любопытно было. Конечно, я пришел, повертелся там, посмотрел, как все устроено, и смылся. Мне потом звонил продюсер, орал, но я деньги не отдал. Он в меня влюбился. У меня там все друзья были геи, и все хотели меня уложить. Они так старомодно ухаживают! Но я сразу сказал, что ничего не получится. Просто они не теряют надежды. Так у них принято.
Костя жил в Пятнадцатом квартале, в квартире, которая нигде не заканчивалась.
– Ну ничего себе! – ахнула Настя. – Ты разбогател?
– Через два месяца меня отсюда выгонят. Кончается срок аренды, – ответил тот, разглядывая кусок сыра. – Мерзость! – определил он и выбросил сыр в помойку. – Пойдем в ресторан! У тебя есть деньги?
Настя растерялась.
– А у тебя нет?
– Пятьдесят франков – это деньги?
Настя засуетилась, залопотала… Порывалась рассчитаться за сумку…
– Да наплевать! – отмахнулся Костя.
– Но как ты можешь покупать такие рубашки, если у тебя нет денег? – ужасалась она.
– Ну, пока я ее не купил, у меня ведь были деньги, – он пожал плечами.
– Но… – Настя осеклась.
Хотела спросить, не боится ли он умереть с голоду, выйти на панель, на паперть, но в этой квартире, глядя на Костю в новой рубашке, ощущая запах его духов, невозможно было представить ни голод, ни паперть.
С тех времен Настя стала замечать, что Костя никогда не бывает бедным, даже с последней сотней франков. Он пешком идет на вечеринку, где на гостях надеты миллионы, и с кем-то едет в ресторан, где съедают тысячи, а уходя от женщины с утра, получает несколько сотен на такси.
– И что ты будешь делать, когда постареешь? – настаивала она уже в ресторане.
– Есть столько возможностей… – пока Анастасия с опаской заглядывала в меню, Костя уже заказал для них самое дорогое блюдо и бутылку хорошего вина. – Я могу жениться. Может, впаду в депрессию и стану зависимым от таблеток, которые меня убьют. Или, например, кто-нибудь купит мне ферму, и я буду там доживать, а потом еще и опубликую скандальные мемуары. Или просто заболею и умру в расцвете сил. Лучше всего пусть меня пристрелит обманутый муж.
– Кость, ну я серьезно!
– Я тоже серьезно. Что тут такого несерьезного? Так все в жизни и происходит!
– Ну просто дело в том, что ведь все стараются, чтобы не произошло… – она с подозрением взглянула на блюдо, которое им принесли. – Это вкусно?
– Какая разница? – Костя подцепил вилкой кусок лягушачьей печенки. – Надо же было попробовать.
Спустя несколько часов они сидели на ступеньках и смотрели на закат, размазанный по облакам.
Настя пребывала в смятении. Она не могла сосредоточиться: как относиться к Косте? То ли презирать сквозь жалость, то ли восторгаться и отчасти завидовать, а может, желать его…
В Салерно между ними ничего не было. Они лежали на кровати, и окна были распахнуты, чтобы видеть луну. Настя завернулась в простыню, а загорелый Костя на белом покрывале казался плоским, рисунком на шелке в виде красивого мужского тела.
Костя гладил ее так задумчиво, как некоторые обкусывают ногти, и Настю это и успокаивало, и задевало.
“И куда это приведет? Чем закончится? А если я влюблюсь?” – тревожилась она.
– Ты напряженная, – произнес он.
Настя называла это “гипертонус”. Как у детей. Она почти всегда находилась в этом тонусе – только, может, глубокой ночью, одна, расслаблялась.
Он повернулся и поцеловал ее в живот, через шелк.
Читать дальше