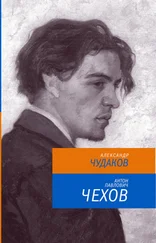Саше постоянно приходилось подрабатывать, в числе прочего участвовать в экспериментах, проводимых в Институте психологии, который находился тогда возле университета. И он пересказал мне услышанную им поразительную историю о выступлении Вольфа Мессинга на сессии института в конце 1940-х годов, где его собирались разоблачать и где во время заседания он заранее воспроизвел предполагаемые речи его обличителей.
В первые университетские годы я находился под сильным впечатлением от общения с моим бывшим школьным учителем, с которым я познакомил Сашу и который впоследствии стал прототипом одного из персонажей его романа – философа Григория Васютина. Георгий Викторович Панфилов – так звали моего учителя – появился у нас в конце 10-го класса (до окончания оставалось месяца два) в качестве преподавателя логики и психологии – предметов, незадолго до этого включенных в школьный курс. Придерживаясь каких-то руссоистских принципов, что всякий ученик по природе добр, он ставил всем пятерки и не обращал никакого внимания на то, что происходило в классе во время урока. Несколько человек, которым было интересно то, что он рассказывал в своей неторопливой манере, садились на первые парты, а остальные занимались чем угодно – болтали, играли в морской бой, читали, делали уроки, только что не пускали голубей.
Мое тесное общение с ним завязалось уже после окончания школы, когда я был на первом курсе. Встретившись как-то с ним в книжном магазине у Моссовета, где продавались немецкие книги, изданные в ГДР, мы разговорились, и он пригласил меня к себе. В его крохотной прокуренной каморке (быт его, точнее полная безбытность, выразительно описаны в романе) в многочасовых разговорах, заканчивавшихся глубокой ночью, развертывалась передо мной панорама мировой культуры – Данте и Шекспир, Микеланджело и Рафаэль, Шиллер и Гете, Байрон и Шелли, Бетховен и Вагнер, Гегель и, конечно, молодой Маркс, его «Философско-экономические рукописи 1844 г.» (коммунизм как «завершенный гуманизм» и «решение загадки истории», человек творит также и «по законам красоты»). На книжной полке стояла статуэтка Венеры Милосской, висели репродукции Сикстинской Мадонны Рафаэля и художников Возрождения. Одной из самых любимых его картин была «Дама в голубом» Константина Сомова в Третьяковке. Для своих немногочисленных посетителей (я, а потом и Саша значились в числе его адептов) он часто находил прообразы в искусстве прошлого – для меня в одном из немецких портретов XVI в., для Саши – в Бруте Микеланджело. Его повседневной мифологией были образы и ситуации Достоевского, через которые нередко воспринимались им перипетии его личной жизни и которые он часто цитировал, особенно из «Идиота». Думаю, что подсознательно он ощущал свою близость к кн. Мышкину. Тишайший человек, не способный и мухи обидеть, и притом проповедник романтического младомарксизма, – кн. Мышкин, грезящий о коммунизме как царстве красоты, наступлению которого препятствуют лишь «антагонистические элементы» (они ассоциировались у него с образами гномов из вагнеровского «Золота Рейна», которого он слушал когда-то у Эвальда Ильенкова, большого почитателя Вагнера), с каковыми должна покончить грядущая коммунистическая революция. Так преломилась в его сознании метафора коммунистической революции как Страшного суда истории, содержавшаяся в одной из статей почитавшегося им Михаила Лифшица. Трудно было представить, как он мог окончить философский факультет (о какой-то его студенческой работе факультетский преподаватель сказал, что это «стиль Ницше, а не советского интеллигента»). «Антагонистическими элементами» (именно так он называл их, слова «контрреволюционеры» я от него не слышал) оказывались и его соседи по густо населенной коммунальной квартире, считавшие его кем-то вроде городского сумасшедшего. И упоминаемый в романе топор (привет Раскольникову) хранился на случай, если когда-либо придется обороняться от «антагонистических элементов». Наше интенсивное общение с Георгием на первых курсах потом как-то сошло на нет (рассказом об одной из последних встреч с ним во дворе университета завершается посвященная ему глава романа).
Николай Комаристый
Стромынка, 1954
Стромынка 1954 года. Огромное общежитие, второй этаж, комната, кажется, 9. И нас в ней тоже 9: три аспиранта – два болгарина, Николай Цветанов и Петр Добрич, и один кореец, Мин-Су. И нас шестеро: монгол Пэлжид Тогмиддин, москвич Славка Фереферов, курянин Толик Сычев, «китаец» Васька Товаров (сидит постоянно в углу с китайским разговорником в руках и все время матерится: «Ши бу ши, ни ху… бу ху…» и т. д.), Сашка Чудаков из Казахстана, кстати, самый молодой из нас, 16 лет. И моя персона, старше Сашки на 10 лет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
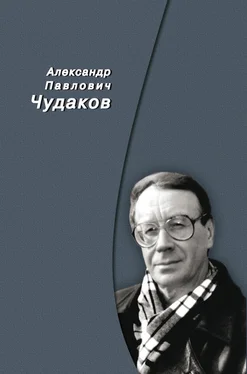
![Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]](/books/24881/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni-thumb.webp)