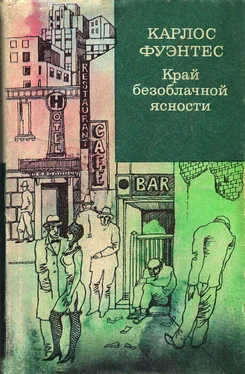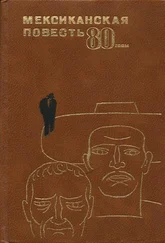Икска медленно выпил чай.
— Вот тут и коренится ложь; это зло, эта порочность тоже исходит от бога; он пожелал ее, он ее предвидел. Потому что бог есть бесконечное благо, но также и бесконечное зло: он чистое, бездонное, беспредельное зеркало всего, что он создал. Мы его творения в добре и во зле. Наша судьба может быть иной, но, чтобы быть подлинной судьбой, она должна до конца согласовываться с той или другой из этих двух реальностей, с добром или злом. Мы должны всецело отдаться своей судьбе, бесповоротно перейти некую грань… Этот переход так краток.
Родриго, который стоя слушал Икску, не хотел верить в эту краткость и тем более в эту бесповоротность. Ему хотелось дать отпор Икске, собрать всю свою веру, потонувшую в равнодушии, вложить ее в несколько слов и уцепиться за эти слова, произнеся их как заклятие против слов Икски. Но он почувствовал, что уже не сможет произнести их и что этим и определяется действительность: два человека лицом к лицу, Икска и он, сломленный, нервозный, не способный породить взрывчатую силу, которая сокрушила бы Сьенфуэгоса, уничтожила бы исходившую от него физически ощутимую мощь.
— Но ведь бог един… — проговорил он без убежденности.
Сьенфуэгос прищурил глаза, сконцентрировав излучаемый ими внутренний свет в узких щелях между веками:
— И это тоже ложь. Бог множествен. Каждый бог был порожден четою, а каждая чета — двумя четами, а две четы — четырьмя, и так далее. Небо населяет больше богов, чем жило на свете людей. — Голос Икски возвышался, раскрывая весь свой диапазон, и в ушах Родриго звучал оскорбительной уверенностью и властностью. — Быть может, есть какая-то не имеющая названия точка схождения всех особностей. Но в этой точке берет начало неиссякаемый поток людей, которые принимают творение и обязуются поддерживать его, и поток богов, которые творят. Каждый человек питает творение какого-нибудь бога, Родриго; каждый человек вслед за ему подобными в реке времени отражает несказанный лик того бога, который отмечает его своим знаком, определяет его и преследует до тех пор, пока он не вернется в смерти к первоначальному дуализму. Весь вопрос только в том, совершается ли этот краткий переход между рождением и смертью с творческой целеустремленностью или протекает в духе компромисса, в русле бессознательного прозябания. Чего ты хочешь?
Родриго не ответил. Он не понимал, означает ли то, к чему призывал его Икска, великое обогащение жизни или простую жертву, самоотречение, которое лишь в финале озарит жизнь, придаст ей смысл и спасет ее от заурядности.
— Над нами тяготеет столько всего, что испытываешь такое чувство, будто другие уже прожили за нас часть нашей жизни, — сказал Родриго. — Только мой отец смог прожить свое, понимаешь? Но не за себя одного, а также и за мою мать, и за меня. Получается так, как будто он, расстрелянный, лишил меня возможности пережить то, что несла в себе революция, потому что опередил меня. Нет, я не понимаю тебя, Икска. Да и кто в наше время может понять тебя и пойти на то, чего ты требуешь?
— Самый обездоленный. — Икска приоткрыл свои мясистые губы и сказал почти на ухо Родриго: — Тот, кто бросился в первозданное пекло творения, чтобы дать пищу огню, был прокаженный… Да, прокаженный. Он возродился, превратившись в звезду. В неподвижную звезду. Потому что одной жертвы, пусть образцовой, было недостаточно. Нужна была повседневная жертва, повседневная пища для того, чтобы солнце светило, совершало свой круг и в свою очередь питало мир. Нет, я вижу не одного бога и не одиночную жертву. Я вижу солнце и дождь на вершине Города. Вижу стихии, с которыми непосредственно сопряжена жизнь каждого человека. Вижу убедительные доказательства — солнце, дождь — высшего могущества, а на земле — тонкую перегородку из моей кости и плоти. Она средостение. Над ней — чистые боги. Под ней — прах, остающийся от наших жизней, скрытых от боязливых глаз. Вот и все. Чего ты хочешь?
— Я… я не знаю, что сказать (призрак хотел заговорить, бился в темных глубинах сознания, за порогом речи, но не мог), не знаю, что думать… Мне трудно высказать правду… Я знаю, что потерпел крах (но не мог выбраться из трясины притворства), что как бы я ни оправдывал себя… я не смог добиться литературной славы, о которой так мечтал юношей… не смог добиться любви единственной женщины, которую любил… не смог дать матери каплю нежности, которая ей только и была нужна…
— А если бы ты отказался от всего этого? Если бы ты отказался от славы, любви, великодушия?
Читать дальше