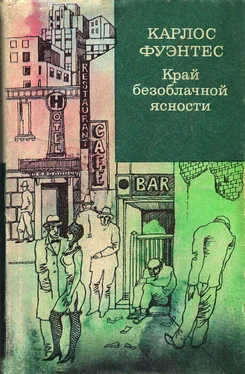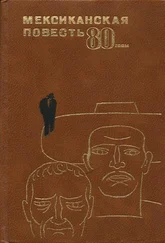— Полегче, полегче, смотрите, куда идете…
Роблес не удержался от горькой улыбки. Он сел напротив Сьенфуэгоса, рядом с Мануэлем. У него старчески одрябли веки, набрякли мешки под глазами, и его тусклый взгляд контрастировал с хищным блеском в глазах Икски Сьенфуэгоса.
— Вот так-то… Видите, Сьенфуэгос, — сказал он, сбросив шляпу, — у меня не изменилась ни одежда, ни манера держаться. Но даже официанты догадываются, что я небольшой барин. «Полегче, полегче…» Уже много лет со мной так не говорили.
— Это захудалое кафе, тут обычно и публика захудалая, — отозвался Икска.
— Вот и я попадаю в этот разряд. А ведь я потратил немало лет, чтобы создать себе безупречную внешность… Ну, Самакону я знаю, так что мы можем говорить откровенно. Вы видите, как быстро пропадает респектабельный вид. Для этого официанта я всего лишь толстый и неуклюжий индеец, который наступил ему на мозоль. Очень тяжело отказываться от завоеванного, Сьенфуэгос.
Икска отхлебнул жидкий кофе, оседавший грязной кашицей на дно плохо вымытой пластмассовой чашки со следами губной помады.
— Как вы думаете, кому труднее от чего-то отказаться — тому, у кого есть все, или тому, у кого нет ничего? — подмигнул Мануэль, повернув голову к Роблесу, и тут же бросил взгляд на Икску.
— Нет, я говорю не о материальных благах, — перебил его Роблес. — Для меня не имеет значения ни дом, ни автомобиль. Я отказываюсь от могущества, вы понимаете? От могущества, которое я же и создал. Ведь без меня, без горстки Федерико Роблесов, которые строили в течение тридцати лет, не было бы ничего, даже возможности от чего-то отказываться. Без нас, я хочу сказать, без узкого круга могущественных людей, сдастся мне, все потонуло бы в традиционной апатии нашего народа.
— Вы имеете в виду людей, выдвинувшихся во время революции? — спросил Самакона.
— Да. Во время революции. Вы знаете, как она началась, а я это пережил. Без программ, без ведущих идей, почти без целей — хотя наш друг Самакона думает иначе. С доморощенными, опереточными вождями. Без продуманной тактики и настоящей революционной теории. Согласен, многое было утрачено или предано. Но кое-что удалось спасти, и спасли это мы…
— Дельные люди… — сказал Икска, не имея в виду напомнить Роблесу их недавний разговор.
— Да, друг мой, дельные люди. Карранса и Кальес, боровшиеся против тех, кто привел бы нас прямиком к катастрофе, против Сапаты и Вильи. Мы, строящие в атмосфере лени и апатии, которую нам приходится преодолевать. Мы, не боящиеся запачкать руки…
Икске хотелось всецело сосредоточиться на наступившем теперь поворотном моменте в судьбе Роблеса, отвлекшись от его прошлого и будущего, но в голове у него невольно промелькнули картины боев под Селайей, воскрешенные голосом и воспоминаниями Федерико.
— …мы, лебезящие перед высшими и надменные с низшими; мы, в какой-то мере поступившиеся своим достоинством, чтобы спасти нечто более важное. И от всего этого я должен теперь отречься?
Лицо Сьенфуэгоса, блестящее и, казалось, отточенное, как лезвие топора, приблизилось к лицу Роблеса.
— Теперь, когда вы имеете все, вы отречетесь. Это легко. Ужасно будет отрекаться потом, уже ничего не имея.
— Ну, уж вы хватили! — протянул Роблес. — Этого не требовалось даже от бога.
— От бога… — проговорил Самакона.
— Конечно. — Роблес выпятил, грудь, снова приняв вид уверенного в себе человека. — Если Иисус Христос волнует людей, то это потому, что он отказался спастись в качестве бога, чтобы принести себя в жертву в качестве разбойника. Неужели вы думаете, что имело бы смысл обратное? Что, будучи разбойником, он мог бы пожертвовать собой как бог? Мне кажется…
Самакона перебил его нервным, захлебывающимся голосом:
— Но то, что Христос умер как разбойник, не исключало возможности умереть как бог. Как раз его смерть позволила любому будущему разбойнику умереть как бог. Его смерть вобрала в себя все смерти, все акты воли, чреватые смертью, отречением и крахом. Христос не только отказался от проявления своей божественности, не только отказался быть богом в глазах других. Взяв на себя бремя судьбы человеческой, он вместе с тем отказался от всех возможностей, существующих для человека, будь то разбойник, святой или блудник. Все могут умереть как бог, потому что бог умер за всех. Все должны спастись — все или никто. Должен спастись и тот, кто живет в безвестности смиренной и жертвенной жизнью, и тот, кто заведомо преступает завет милосердия и любви. — Мануэль на мгновение умолк. Он уловил в своем собственном голосе доселе незнакомые ему интонации; вспомнил фразы, которые произносил несколько недель назад у Бобо, и сам удивился новому ходу своей мысли; это удивление послышалось в его голосе, когда он снова заговорил: — Величайший преступник может сказать: «Я совершу свое преступление вполне предумышленно, я подвергну свою жертву пыткам и глумлениям, всего более противным ее свободе и ее достоинству как подобия божьего, и тем не менее в силу любви, которую бог питает ко мне, кровавому злодею, он может все это простить мне и спасти меня». — С лица Икски не сходило ироническое выражение. Роблес сидел, уставившись на стопку книг и плащ Самаконы. — Единственным, кто не спасется, будет воскресший, потому что он уже не сможет совершить преступления и почувствовать вину. Он познал и вернулся.
Читать дальше