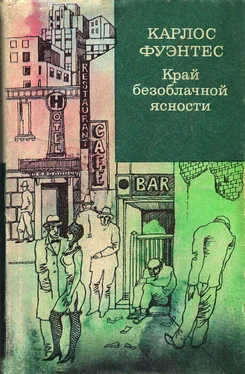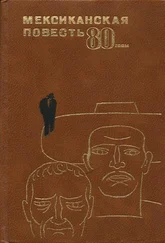Смех Мануэля звонко отразился от оранжево-желтых стен почтамта в стиле венецианского дворца. Икска Сьенфуэгос тоже улыбнулся: в Мексике считается дурным тоном не подшучивать над своими собственными несчастьями. Трамваи медленно двигались по улице Такуба: в другом дворце, где помещался Горный институт, гремели петарды — это студенты требовали продленных каникул. Икска и Мануэль вошли в кафе, где в нос шибал запах инсектицида, а неоновые трубки бросали на столики тусклый зеленоватый свет. Здесь не было ни показной чистоты американского образца, ни уюта старых мексиканских кафе. У Самаконы это заведение ассоциировалось с псом, продуктом всех скрещений, порожденным в атмосфере городских миазмов, который ходил между столиками, обнюхивая дырявый линолеум.
— Что станут делать мексиканские интеллектуалы, когда будет достигнута гласность? — улыбнулся Мануэль, бросая на стол плащ и стопку книг. — Потому что приближается день, Икска, когда люди захотят гласности, и больше ничего. Не заварух, не перестрелок и даже не того, чтобы ИРП перешла в оппозицию. Нет. Только одного: чтобы обо всем можно было говорить открыто, чтобы можно было критиковать общественных деятелей и обсуждать социальные проблемы. Президентом, как всегда, будет кандидат ИРП. Вопрос не в этом. Чего хочет народ и будет все больше хотеть, так это чтобы кандидат не выбирался, в свою очередь, конклавом бывших президентов. Народ захочет обсуждать кандидатов, а вместе с ними и проблемы. Наша наемная печать, конечно, не очень-то помогает этому. А наши интеллектуалы либо самые глупые в мире марксисты, либо люди, которые считают, что важнее, пусть в одиночку, серьезно работать в своей области, чем пачкать руки, вмешиваясь в такую бессмысленную и механическую общественную жизнь, как наша.
Икска заказал два кофе быковатому официанту, чесавшему в паху.
— Всегда есть еще один шаг, которого никто не может избежать: насилие, — сказал, слегка скривив рот, Сьенфуэгос. — Повторяющиеся уроки истории недостаточны, чтобы предотвратить его. Он всегда делается, этот шаг.
— И наша страна уже много раз подвергалась насилию, — проговорил Самакона, закуривая сигарету и щурясь от дыма. — Ты это хочешь сказать?
— Нет, — ответил Икска ровным, каким-то чужим голосом. — Только один раз. Как все.
— Когда?
— Когда она забыла, что первое решение есть в то же время и последнее. — «Теперь, — подумал Мануэль, — голос Сьенфуэгоса стал слишком внушительным, исполненным сознания какой-то особой значительности, которую Икска приписывает себе, неизвестно почему». — Что она может быть лишь тем, чем пожелала быть с самого начала. Что все остальное только личины, которые она надевает на себя.
Мануэлю хотелось разгадать, что за личину надевает на себя сам Сьенфуэгос.
— О каком первоначальном решении ты говоришь?
— О решении исконной Мексики, еще не порвавшей пуповины, связующей ее с природным бытием, Мексики, которая действительно воплощала свою сущность в своих обрядах, которая действительно создавала себя в вере, которая…
— …которая действительно подчинялась кровавой деспотической власти, прикрывавшейся сатанической теологией…
Икска иронически посмотрел на него.
— А нынешняя власть? Сейчас придет сюда Федерико Роблес. Сегодня она принадлежит — или принадлежала — ему. Разве эта жалкая, лишенная величия власть торгаша лучше, чем та, у носителей которой, по крайней мере, хватало воображения связывать ее с солнцем и с реальными, постоянными и необоримыми силами космоса? Уверяю тебя, что я предпочел бы скорее быть заколотым на жертвенном камне, чем потонуть в дерьме капиталистических афер и газетных сплетен.
Принесли дымящийся кофе, подернутый сальной пленкой. Самакона отказался от сахара, предложенного ему Сьенфуэгосом.
— Я пью так. Да, я читал утренние газеты. Хотел бы я знать, что теряет от этого такой человек, как Роблес. От чего он отрекается…
— Отрекается?
— Да. — Мануэль, поморщившись, отхлебнул горький кофе, отдававший толчеными бобами. — Я хотел бы знать, зависит ли его личность от тех элементов власти, которые у него теперь отняты, или в нем есть подлинная сила, нечто такое, что не позволит сломить Роблеса, несмотря на его банкротство. Вот что мне важно знать, а не просто тот факт, что Роблес разорился… На мой взгляд, — Самакона с легкой улыбкой заглянул в глаза Сьенфуэгоса, — Федерико Роблес — это личность.
Сьенфуэгос знаком остановил его: вошел Роблес. Официант столкнулся с банкиром и раздраженно крикнул ему:
Читать дальше