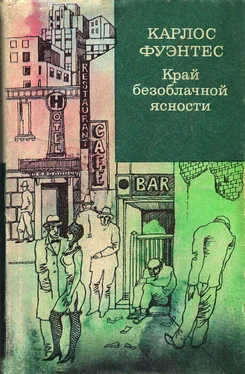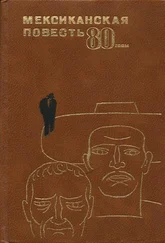Ортенсия кашлянула и подвинулась вперед в своем кресле на колесах. Ее взяла злость, и она решила прервать томительное молчание.
— Он уж, конечно, не говорил вам про меня. Откуда же вы знаете обо мне? Что вы от меня хотите? Что вы здесь делаете?
ЧТОБЫ ВЗОБРАТЬСЯ НА НОПАЛЬ
Новая заря — новый город. Город вне связи времен — без воспоминаний и без предчувствий, — сносимый течением по асфальтовой реке, к водопаду, где он распадается, теряя свой облик. В этот рассветный час Икска Сьенфуэгос шел по улицам, составляющим скелет Мехико — сколет без сочленений, — от красной крепости Вискаинас к затянутой в цемент с лепным рюшем улице Сан-Хуан-де-Летран, этому туннелю, по которому, гонимая ветром, летела вся шелуха и скорлупа прошедшей ночи: человеческий сор и просто сор, отголоски шума, доносящиеся из кабаре, и шарканье ног по мостовой, выдающее похотливых старикашек, ласкавших обвислые груди в «Меаве», «Синей Бороде», «Бандиде» — во всех борделях, где проститутки отпускали за ночь по три-четыре клиента, плативших по шестьдесят — сто песо за эти захватанные, вялые плоды, и от Сан-Хуан-де-Летран к музею железных занавесей, который в этот час являл собой проспект Мадеро, музею, куда не вмещались лишь церковь Св. Франциска, погруженная в глубокое ожидание и овеянная ароматом гвоздик, да дворец Итурбиде, горделивый и в забвении. Сьенфуэгос шел, по обыкновению засунув руки в карманы черного плаща, глядя куда-то вдаль, в одну точку, и на минуту выходя из задумчивости, только когда его внимание невольно привлекала архитектура какого-нибудь здания или в поле его зрения, на фоне Sanborn’s, High Life, Марии Павильяни, Пастеландии, American Book, кино «Рекс», Масаля, Кодака, РКА, Кальпини, Кимберлея, отеля «Риц» появлялись люди — метельщики улиц, полицейские, мальчишки, старухи, похожие на черные скелеты.
Это был час, когда город представал в своей сути: в сером, стальном свете выступало только главное, только общие очертания, абрис, без нажима и без обмана, не так, как в другие часы, при солнце или при луне. Час перед возвращением к жизни. Икска, каждый день совершавший такую прогулку, как только просыпался, был постоянным свидетелем этого повседневного воскресения; казалось, он был насыщен электричеством, и оно-то, стекая с его судорожных пальцев, все приводило в действие. Но сегодня ему хотелось только, чтобы от него исходила сила, способная удержать, закрепить образ города, встававший перед ним в этот час. Икске думалось, что он проникся правдой Родриго, Нормы, Роблеса. Норма и Родриго были уже на пути к тому, чтобы принять окончательное обличье. Роблес оставался загадочной, непостижимой фигурой; он, хозяин нового мексиканского мира, он, перед кем преклонялись Родриго и Норма, сам был в большей мере, чем кто бы то ни было, рабом этого мира и его бунтарем. Он был его Отребьем-Столпом, единственным, кто знал или угадывал в истоках или за пределами этого мира, в котором теперь были замкнуты они все, куда более широкие миры. Какова природа Роблеса, его подлинная природа? Остановившись закурить на углу Мадеро и Пальма, Икска подумал, что она, должно быть, настолько проста и ясна, что он, Икска, ее никогда не поймет. Что темная, обочная жизнь, которую предлагала Роблесу Ортенсия Чакон, была лишь заменителем, самое большее опосредованным отражением того прозябания, с которым он столкнулся с самого начала, а властвованье, описанное Либрадой Ибарра (а в другой раз и самим Роблесом) было лишь бегством от этой скрытой природы и в то же время ее проявлением. И в эту минуту Икска почувствовал, что вопрос о том, во что же в конечном счете суждено претвориться этой природе, решится в мучительной борьбе, в которой восторжествует либо Роблес в новом облике, либо Сьенфуэгос и Теодула. Он увидел, что день вступает в свои права, и подумал о множестве людей, близких ему людей, уже проснувшихся, раскрывших глаза, в которых светится мысль, и призванных приблизить свершение судеб.
В квартире на улице Берлин, в квартале Хуареса, где с такой изысканностью сочетаются сверкающая полировка и бархат, шкафчики маркетри и засохшие иммортели, Пимпинела де Овандо просыпается от режущих ей глаза первых лучей света.
Норма Роблес вернулась из Акапулько дочерна загорелая, слегка похудевшая и осунувшаяся, но полная силы и решительности, сквозившей в каждом ее движении, — вся как натянутая тетива. От ее прежнего заискивания перед Пимпинелой не осталось и следа, и она без обиняков объявила ей, что Бенхамина выгнали из банка, и поделом — пусть хоть сама Пимпинела подыхает с голоду вместе со всей своей подыхающей с голоду родней. Так она сказала и, подняв брови, добавила:
Читать дальше