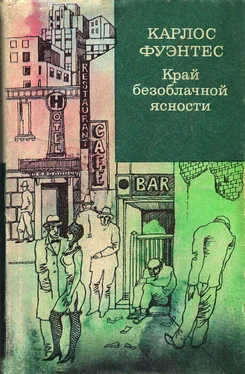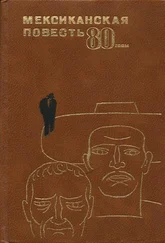— Ну, все в порядке! Послушай, Симон, пусть Родриго останется здесь на неделю, чтобы написать все, что мы обговорили. Ты понимаешь, дружище, нужны поэтические диалоги, ведь мы хотим сделать что-то стоящее. Пусть, например, эта золушка и импресарио приезжают на уик-энд в Акапулько и он пускается во всякие сравнения, мол, море похоже на то, а волны на это, и твои губы та-та-та, и пальмы ля-ля-ля. Я тем временем подыщу съемочные площадки, а ты, Симон, займись съемочной группой. Через неделю мы сможем начать натурные съемки и в две недели отснимем всю ленту.
Симон наморщил нос и почесал лысину.
— У Родриго уже вполне сложился замысел. За четыре дня он кончит сценарий.
— Ну, ну, не прижимай его так, скряга ты этакий. — Табоада встал и принялся делать гимнастику. У него тряслись жировые складки, и с волос, вьющихся на затылке, падали крупные капли вазелина. — Не беспокойся, дружище. Послушай, Симон, та курносенькая статистка, которая играла угнетенную индианку в моем последнем фильме, сейчас свободна?
— Эсли не свободна, мы ее освободим, Чино.
— Пусть ее пришлют сюда, к нашему другу Пола, чтобы ему приятнее было работать. Вот это будет шлягер! Как мы его назовем?
— Специалист по названиям Всшилисшилский. Сейчас он в Куэрнаваке. Пусть придумает. За это ему и платят.
— О’кей, о’кей.
— На первый раз мы дадим Родриго двенадцать тысяч.
— О’кей, о’кей.
Родриго откинул голову на спинку стула. Закрыл глаза и замурлыкал болеро. Стакан приятно холодил руку, виски приятно согревало желудок, в жилах играла кровь. Заходящее солнце красило облака в гармоничные тона как бы для того, чтобы лучше потрафить эстетическому чувству Эфраима и Табоады. Они оборвали разговор, чтобы воздать молчаливую почесть природе. Родриго раскрыл глаза и почувствовал желание написать на розовом небосклоне слово «конец».
— Море уж очень неспокойное, — сказала Норма, сидевшая на складном стуле посреди нависшей над скалами террасы.
— Тем лучше, опробуем парусник, — ответил Икска.
Норме не хотелось двигаться с места. В каждой поре ее загорелого тела гнездился вечерний свет, и каждая была напоена хмелем последних дней, проведенных на белом песке и в изумрудной воде, обласканных солнцем и пропитанных солью, последних дней и последних ночей любви, единственных, — говорила она себе в эту минуту, — которые она будет вспоминать. Обняв себя руками за плечи и слегка прищурив глаза, Норма следила за скупыми движениями Икски, который, устремив взгляд на море, медленно курил, поставив ногу на бортик террасы.
— Тебе было хорошо?
Сьенфуэгос не ответил. Лучи заходящего солнца, падая на его лицо и грудь, оттеняли жаркой охрой оливковый цвет кожи.
— Сердцеед! — Норма закрыла глаза и сморщила губы. — Не злись, farouche [177]. Ты ведь знаешь, я сделаю все, что ты хочешь, я твоя.
Икска улыбнулся, не поворачивая лица к Норме. Из порта начали доноситься звуки дансонов, изрыгаемых электропианолами. Крепчавший бриз покрывал море барашками.
— Пойдем, Норма.
— Поднимается сильный ветер. А здесь нам так хорошо.
— Пойдем.
Они спустились по каменной лестнице к причалу. Сьенфуэгос поднял парус, Норма, балансируя руками, спрыгнула в лодку и примостилась на корме. Мимо нее проплывали скалы: Икска выводил парусник в открытое море.
— Ну и погодка!
Море мрачнело, все чернее становилась глубь, все грознее небо, и Норма чувствовала, как ее окутывает соленая муть. Она смотрела на спину Икски, управлявшего парусом, и ей хотелось встать и впиться в нее зубами. Ее охватило неудержимое желание сделать это, даже если она его больше никогда не увидит, укусить его в спину, как бы завершив этим все дни их любви. Она подумала, что никогда больше не сможет жить в акапулькском доме, что ложа в нем окрашены, пропитаны плотью Икски, которую сейчас ей хотелось укусить. Она обернулась к берегу, пропадавшему во взболтанной ветром ночи.
— Ты меня любишь, Норма? — крикнул Икска, перекрывая хлопанье паруса.
— Да, да! Больше самой себя! — Сиплый рев заглушил ее слова. — Икска! Вернемся!
— Больше самой себя? — снова крикнул Икска.
Но Норма уже не слушала его. Начали подниматься волны, сначала мелкие, слабые, потом все более плотные, высокие, готовые захлестнуть легенькое суденышко и в слепой ярости швырнуть его в бездонную глубину.
— Спусти парус, Икска!
— Больше самой себя?
— Мы перевернемся! Спусти парус!
Норма, стоя на коленях, быстро огляделась по сторонам: два огромных, беспросветно темных вала — более темных, чем небо, в которое они вздымались, как стены, — с разинутой пастью катились навстречу друг другу; послышался грохот, и Норма с отчаянием схватилась за спасательный круг, но почувствовала, что чужая рука вырывает его у нее, не с исступлением, как цеплялась за него она, а с холодным, трезвым умыслом: эта рука сжимала ее запястье и отрывала ее кисть от твердого круга, воплощавшего спасение. Норма почувствовала, что ее засасывает в другой, неосязаемый круг, и у нее зазвенело в ушах; во тьме вспыхнули серебристые молнии, замелькали неуловимые, как рыбы, бороздящие океан, бесформенные цветные пятна. Потом она снова вдохнула воздух и услышала справа от себя дыхание Икски, державшегося за спасательный круг. «Отдай, отдай!» — попыталась крикнуть Норма: она не хотела поверить в то, что означала сверкавшая в темноте улыбка Сьенфуэгоса, подобная оскалу какой-то немыслимой акулы. Снова раздался грохот; Норма опять погрузилась в жидкое серебро, на этот раз вязкое, как слизь, опять потянулась ногами, ногтями ног к далекому дну и опять, вынырнув, глотнула воздух: перед ней по-прежнему, как в фокусе объектива, была блестящая голова, опирающаяся на спасательный круг. Норма, вспыхнув яростью, в три маха подплыла к этому твердому белому кругу. «Отдай! отдай!» — задыхаясь, повторяла она, царапая лицо Сьенфуэгоса, впиваясь ногтями в его шею, словно в полоску твердой земли, барахтаясь и взбивая кипень, пока не обхватила руками голову Икски, не погрузила в воду, не утопила ее и не завладела спасательным кругом.
Читать дальше