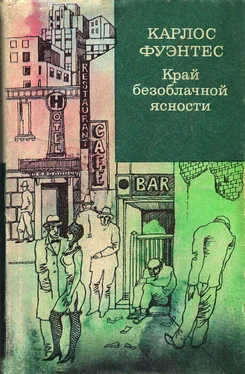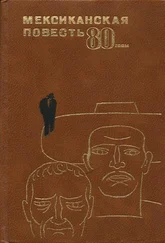— Скажи мне: «Я люблю тебя», — сузила веки Норма.
— Почему бы не жить в глубине моря?.. Там столько места…
— Скажи: «Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя»…
Норма знала, что никогда не услышит этих слов. Она только ощущала темную магнетическую силу, исходящую от Сьенфуэгоса и вливающуюся в нее. Она встала, прижала к себе Икску, и его губы слились с ее губами. Норма впилась ногтями в напряженную спину Сьенфуэгоса, а Икска чувствовал под шерстью платья ее горячую грудь и искал упругий сосок.
— Вот я какая, — со смехом прошептала Норма, не отрывая губ от его рта и еще сильнее впиваясь ногтями в его спину, и добавила низким, густым голосом, — ты один это знаешь теперь.
Сьенфуэгос считал про себя, пока длился поцелуй; он знал уже каждую складку ее рта. Потом Норма высвободилась, оттолкнула его руками и с суровым видом спросила:
— А теперь скажи мне, почему я приспешница мужа? Что дает ему превосходство надо мной?
— Власть. И умение пользоваться ею, — сказал Икска, слизывая губную помаду.
— Идем со мной. — Норма взяла его под руку и, как пьяная, стукаясь о перила, смеясь, гладя себя по волосам и царапая руку Икски, поднялась с ним по лестнице и открыла дверь спальни.
— Власть! Власть! — с хохотом говорила она, сбрасывая с себя платье и туфли. — Видишь? Нет у него никакой власти. Только ты это знаешь.
Норма погладила себя по талии и протянула руки к Сьенфуэгосу.
— Клянусь тебе, что я не спала ни с кем, кроме мужа, с тех пор, как мы поженились.
Икска стоял напротив нее, напряженный и трепещущий в темноте, как пламя свечи, которая ярко горит, только когда темно, но сгорает и при свете.
— А с ним ты спала не без страха.
Норма прикрыла грудь руками.
— Да, не без страха. Посмотри на мое тело, потрогай его, а потом представь себе Федерико и скажи, могу ли я не бояться зачать такого, как он… — Норма упала на кровать.
— Хочешь такого, как я?
— Нет, никакого не хочу… иди ко мне, суровая богомолка…
Сьенфуэгос сел на кровать и положил руку на горло Нормы.
— Слушай, несчастная, что тебе нужно: мое тело или мои слова? У меня есть только слова, даже мое тело из слов, и эти слова могут стать твоими.
— Икска, мне больно!
— Я буду душить тебя до тех пор, пока у тебя не вывалится язык, как черный агвиат. Слушай меня… тебе не нужна плоть, ты хочешь слов, слов, которыми могла бы угнетать других и которые возвращались бы к тебе, обратившись в чужое горе. Ты не вправе быть довольной собой: ведь то, что ты только что назвала желанным для тебя — деньги, имена, чувство принадлежности к цвету Мексики, — желанно не само по себе, а только как средство. Ты должна быть собой, собой во всей полноте и со всеми следствиями в твоей жизни, ты меня понимаешь? Разве ты не этого хочешь?
Из уст Нормы вырывался нечленораздельный стон, но глаза ее выражали не страх, а презрение и в то же время нечто близкое к жадности. Ее обнаженное тело, безвольное, беззащитное, теряло всю свою привлекательность.
— Возьми власть, она принадлежит тебе. Тебе не нужно ничего другого. И я не дам тебе насладиться моей плотью, пока ты не проглотишь все мои слова, и тебя не затошнит от них, и они не оплетут тебя, как щупальца спрута. Пока ты не сделаешь их своими.
Икска опять впился зубами в губы Нормы, прокусив их до крови. У Нормы снова вырвался невольный стон, не громкий, но долгий, и она с новой силой, с силой первой страсти, безрассудной, слепой, безумной страсти, обняла Икску. Со стоном на устах и с умоляющим взором, впиваясь в него ногтями, Норма почувствовала, что какая-то мощная, горячая волна — волна нахлынувшего солнца — подхватывает ее, уносит и бросает во вспененную пучину. Икска выдохнул:
— Ты это сделаешь, Норма, ты это сделаешь?
И не голос ее, а все отзвуки бури, бушевавшей в этом новом, возникшем в одно мгновение мире, мире слепой и безумной страсти, ответили: «Я сделаю то, что ты хочешь, но ты овладеешь мной, и снова, и снова овладеешь, да?»
Отец, мать, бабушка и пятеро детей приезжают в порт Акапулько на «шевроле-1940», заляпанном грязью, пропахшем рвотой и усыпанном банановой кожурой. Дети кричат, впервые увидев зеленоватую кромку моря. «Замолчите, сопляки!» — «Зачем ты так, Педро. Это же естественно». — «Вы всегда отличались благовоспитанностью, — брюзжит бабушка, — всегда выбираете самые изысканные выражения. Помнишь, Луиза, того красивого молодого человека, который ухаживал за тобой, пока ты не встретила этого… такого воспитанного?..» — «Попридержите язык, сеньора, если не хотите, чтобы я вам выдал, — орет сидящий за рулем краснолицый мужчина, обросший седой щетиной. — Вы забываете, что я служил в войсках Майторены, и если мне уже не случается отхлестать ремнем пьяного капрала, то я еще могу проучить полоумную тещу, которая суется не в свое дело». — «Вы только со мной и воевали, босяк!» — кричит с заднего сиденья бабушка, стиснутая грязными и растрепанными детьми. «Сеньора! Мое терпение имеет границы!» — «Помолчите, грубиян; как подумаю, что Луиза могла…» — «Ладно, мама. Интересно, какая это гостиница, куда мы едем, Педро. Хоть бы там не было бассейна; я так боюсь, как бы кто-нибудь из детей…» — «Еще бы! Не хватало только, чтобы после того, как мы ухлопали все, что отложили за год, на эту треклятую затею, у нас утонул один из сопляков. Вот что, Луиза, поедем назад. Я уже вижу, что получится из этого отпуска. Полоумная старуха зудит…» — «Босяк! Вот как вас воспитали!» — ворчит бабушка с взлохмаченным пучком и трясущимися щеками. — «…ты не знаешь ни минуты отдыха из-за детей…» — «А ты выходишь из себя, потому что не представляется случая гульнуть в свое удовольствие, верно?» — со слезами в голосе говорит тонкая, смуглая женщина. «Не в этом дело; подсчитай-ка; включая еду, тридцать песо на человека, помножь это на восемь… это же разорение, Луиза! А чаевые официантам, которые смотрят на тебя сверху вниз, а катанье на катере, а кокосовая вода — ведь этому нет конца!» — «Тогда зачем ты нам обещал?» — «Разве это мужчина! Если бы Луиза вышла замуж за…» В порту нечем дышать, пахнет гнилой рыбой и бензином. Вокруг старого «шевроле» все сверкает на солнце. Дети кричат и начинают раздеваться.
Читать дальше