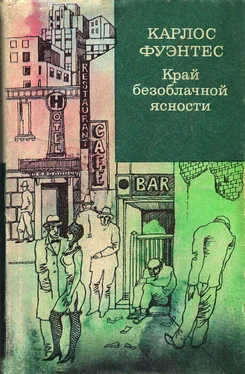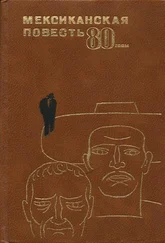Пимпинела встала с дивана и зажгла свет; иголку заело, и она издавала одну и ту же визгливую скрипичную ноту; однако это тоже Вивальди, подумала Пимпинела и предоставила визгу без конца повторяться. Она стояла перед зеркалом, глядя на изящную блондинку, на ее тонкую, стройную фигуру, строгий черный костюм, орлиный нос, отливающие металлом глаза, надменный подбородок, обозначившиеся морщинки у рта, и в то же время как бы сквозь стекло: ей хотелось снова восстановить в памяти былое, детство, все мелочи домашнего обихода… «Сеньора, Пимпинела не хочет есть»… «Не им меня судить», — сказала она, и опять погасила свет. А иголка все скрипела по пластинке.
Лицо каталонского типа, словно вырубленное топором, а против него круглое, красное, но усталое лицо. Каталонка сидит на стуле, прямая, как его спинка; на стенах крохотной комнатушки старые фотографии, две репродукции «Капричос», полка с зачитанными книгами: Прадос, Эрнандес, Гарсиа Лорка, Леон Фелипе, Альтолагирре.
— Так, значит, вы его видели?
— Видеть-то видел, сеньора… но ваш муж был очень плох, вы бы его не узнали.
— Где?
— Поблизости от Таррагоны. Но это был уже другой человек. Никто его не узнал бы.
— Вы забываете, что уже скоро тринадцать лет, как я в Мексике.
— Все равно. Говорю вам, он был уже не похож на себя. Другой человек.
Прямая, высокая женщина видит, что посетитель не понимает ее. Она хочет сказать: его лицо для нее навсегда останется все тем же, это бронзовое от загара лицо ополченца с заржавленной винтовкой на плече, который оборачивается, чтобы на прощанье помахать ей беретом. В воздухе Сан-Фелиу смешивается дыхание Средиземного моря и Пиренеев, и весь народ и ополченцы поют… на передовой под Теруэлем… и пепельные глаза Пабло смотрят на балкон, где она стоит, старательно улыбаясь, смотрят поверх голов шагающих и поющих людей, поверх моря и гор, встретившихся в воздухе, и к ней он обращает свою терпкую песнь об отваге и стойкости… если захочешь написать мне, адрес известен, теруэльский фронт… Каталонка знает: ничто не изменит это лицо.
— Не ходите вокруг да около. Говорите напрямик.
— Так вы уже тринадцать лет в Мехико, сеньора?
— Скоро будет тринадцать. Как видите, держу кондитерскую лавочку, и мы не голодаем. Можно даже сказать, ни в чем не нуждаемся. Теперь мы и здешние, и тамошние. Две родины всегда лучше, чем одна. А вы? Бежали? Как?
— Пехом. В Сьерра-де-ла-Пена, а оттуда в Хаку. Потом перевалил через хребет и спустился во Францию, в Ларен. Вот и все. И пусть меня черт поберет, если кто-нибудь может пройти, сколько я прошел.
— Вы молодцы, как всегда.
— Будьте и вы молодцом, сеньора, крепитесь, потому что Пабло был очень плох, когда я расстался с ним.
— Ничего, он выдержит. Выдержал налеты юнкерсов, неужели не выдержит гнилые бобы Франко? Он выдержал и Теруэль, и Гвадалахару, и осаду Мадрида. Таков мой Пабло, да будет вам известно. Что вы за люди! Если он знает, что я жду его здесь, что для меня тринадцать лет… да что тут говорить. Когда он уходил с ополчением из Сан-Фелиу, он мне так и сказал. Адрес известен. Я здесь, он там — это не имеет значения. Расстояние измеряется не морями.
— Сеньора… не знаю, как вам сказать. Пабло погиб. Он взялся прикрыть нас, когда мы уходили. Франкисты изрешетили его пулями. Он спас нам жизнь: они подумали, что он один. Это был настоящий герой, — не переводя дыхания, выпаливает круглолицый мужчина, и его слова обращаются в ток, пробегающий по телу высокой, прямой женщины с глазами, как сливы, и длинными руками. У нее перед глазами сталкиваются и разбиваются на осколки воскресающие в памяти сцены. Расставания, плачущие женщины, поющие солдаты, бредущие по снегу беженцы, вино и лук, сапоги и альпаргаты, лица людей с плоскогорья и с побережья, из Наварры и Валенсии, из Кастильи и Эстремадуры, лица героев единственной честной, от начала до конца чистой истории, единственного безусловного испытания человеческой личности. Она поднимается, упершись длинными руками о стул. С минуту ждет, не скажет ли мужчина что-нибудь еще. Потом произносит:
— Я уже сказала вам, что не этим измеряется расстояние. Встаньте, сеньор, встаньте… и пойте со мной, пойте как раньше, пойте, чтобы проститься с Пабло.
В маленькой комнатке на улице Насас едва слышно звучат погасший голос женщины с грубым лицом, будто вырубленным топором, и хриплый, надтреснутый голос круглолицего мужчины: с пятым, пятым, пятым полком, мать, ухожу я на фронт…
Читать дальше