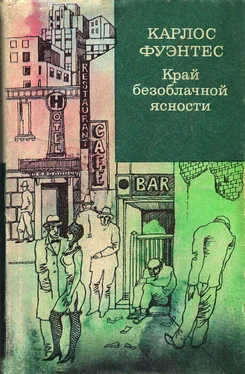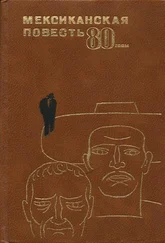Ортенсия Чакон в темноте пробегала наэлектризованными подушечками пальцев по рукам Федерико Роблеса. Ее распущенные волосы слегка потрескивали: надвигалась гроза. Всплыв из глубины сна, тяжелого и нежного, как принимавшая его плоть, Федерико Роблес открыл глаза и, окинув взглядом фигуру Ортенсии, испытал чувство какого-то озарения. Не первый вечер проводил он в квартире на улице Тонала, но только в этот раз, казалось ему, он уже не смутно, как прежде, а с предельной отчетливостью осознал место, которое занимала в его жизни эта женщина, вот уже три года дарившая ему свою близость и нечто такое, что Федерико еще не умел назвать. Теперь, видя ее в кровати, он связывал с ней два новых момента, над которыми не задумался бы в предшествующие годы. Раскапыванье погребенных образов прошлого в беседе со Сьенфуэгосом и легкое отвращение жены, которое он впервые почувствовал в то воскресенье, когда она собиралась на очередную свадьбу. Тогда он невольно подумал о том, что в действительности значила для него Ортенсия Чакон. Но ему понадобилось еще раз побыть с ней и поспать возле нее каменным, бездонным сном, чтобы подтвердить самому себе то, что он невольно подумал тогда. У Ортенсии, тридцатидвухлетней женщины, выносившей трех детей, живот и груди уже утратили былую упругость, но кожа оставалась сливочно-нежной. Роблес вспомнил минувшее мгновение, за которым последовал сон. Мгновение, когда Ортенсия в темноте и тишине, без слов, без стонов отдалась ему с неистовой, всепоглощающей страстью. В кульминационный момент Федерико закусил прядь ее волос, и это привело ему на память, воскресило потонувшую в сутолоке последних дней, заслоненную всем тем, что составляло его повседневную жизнь, картину поля под Селайей, день, когда он мчался вскачь, впиваясь зубами в уздечку и чувствуя, как все его тело полнится силой, торжествующей над сумятицей боя, грохотом, людьми, падающими вокруг него. Ему отчетливо вспомнились вопросы Сьенфуэгоса. Он снова закрыл глаза; в его воспоминании эти вопросы задавал не Сьенфуэгос, а молодой человек, который в тот же день обедал у него и поверял ему свои мысли, смотрел на него как на живое существо, а не как на символ успеха и молчаливо подразумеваемых мексиканских ценностей. Образ Мануэля Самаконы почему-то взволновал его — логически он не мог этого объяснить. Он пристально посмотрел на Ортенсию: между нею и этим образом, внезапно всплывшим в памяти, казалось ему, должна была быть какая-то связь. Ортенсия повернулась с излишней осторожностью, стараясь не потревожить его.
— Не беспокойся, я уже проснулся, — проговорил Роблес, не поднимая головы с подушки.
— А, хорошо, — отозвалась она тихим и покорным, но тем особенным, проникновенным голосом, каким она обращалась к нему одному из темноты и тишины.
Он подумал, что Ортенсия воплощает все, что делает его самим собой: без слов ощутимое могущество; мощную и непосредственную жизнедеятельность, элементы которой можно перечесть по пальцам и которая протекает независимо от внешних проявлений могущества, как бы под ними или над ними. То, что выпадает в осадок из жизненной взвеси, то, что питает его живительными соками, то, чем он дышит. Залитую кровью равнину под Селайей. Нагое, влажное тело женщины. Роблес вздохнул полной грудью; кровь быстрей заструилась в его жилах. Он спустил тонкие, безволосые ноги и сел на край резной кровати из орехового дерева.
Ортенсия провела пальцами по его спине.
— Тебе хорошо? — спросила она.
Роблес попытался напружинить сразу все мускулы, перелить в свое тело силу, которую он ощущал во всех фибрах своего существа. Хорошо ли ему? Он чувствовал прилив энергии, свежесть, легкость… но завтра, подумалось ему, он растратит всю силу, почерпнутую здесь, у Ортенсии. Он снова оглядел тело метиски, опустил глаза на ее живот, на темный треугольник внизу живота. Соответствовал ли источник силы ее назначению? — снова спросил его Мануэль Самакона голосом Икски Сьенфуэгоса. Смуглые тела Федерико и Ортенсии четко вырисовывались на белизне простыней.
— Ортенсия…
Она положила руку на плечо Роблеса.
— Ты иногда вспоминаешь?..
Ее пальцы поднялись на взъерошенный затылок Роблеса.
— Немножко.
Роблес потер себе лоб; перед его мысленным взором пронесся белесоватый мир, оправленный в никель и мигающий неоновыми глазами; а за ним — другой, раскинувшийся вширь, красноватый, полнящийся песнями, именами, развернутыми знаменами, взбешенными лошадьми. В центре каждого из этих миров стояла его собственная фигура: прозрачно-бледная — в одном, почерневшая, обугленная — в другом. Опаленный человек протягивал руки призрачному; тот был не в силах поднять свои. Роблес прикоснулся губами к голове Ортенсии; почувствовал: здесь цельная, без разлома, единая жизнь. Единая от рождения до смерти, как жирная линия, проведенная одним движением твердой руки… Быть может — ему не хотелось больше думать, а хотелось выбежать отсюда со своим сокровищем, силой, и швырнуть его в пасть мира, ждущего лакомства от сильного человека, — быть может, только отказавшись от обмена этой силы, почерпнутой у Ортенсии, на внешнее могущество… только так…
Читать дальше