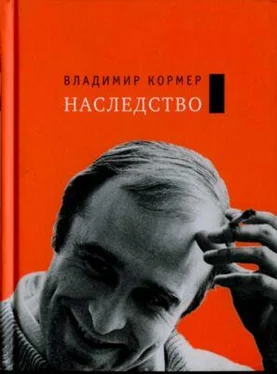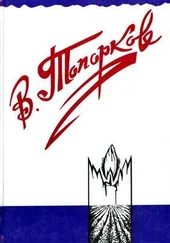— Вы сами знаете, что такого человека не существует, — возразил латыш.
— Возможно, возможно, — с отчаянием воскликнул Проровнер. — Это мог быть, так сказать, собирательный персонаж. Но ведь кто-то существовал! Должны же где-то храниться мои сюда шифровки, копии ваших шифровок ко мне! Должны же быть материалы, связанные с моей работой! Или их нет? — с ужасом закричал он, спохватываясь вдруг, что совсем не представляет себе, как работает разведывательное управление и не уничтожаются ли ради секретности все материалы, едва только непосредственная нужда в них отпадает.
Латыш задумчиво молчал. Потом, вздохнув, предложил:
— Расскажите подробней о своих связях с преступной бандой Раткевича — Деда.
Проровнеру было уже так плохо физически, что он даже не удивился, он почти был готов к этому. Он тихо сидел, свеся голову и уронив на худые колени руки. Никаких определенных мыслей у него не было, слов тоже. В голове была горячая пустота, как с похмелья.
Следователь хладнокровно ждал. Молодой человек по-ерзывал в своем углу. Проровнер все молчал. Время от времени ему начинало казаться, что долее молчать неудобно, но он никак не мог подобрать слов, язык не ворочался у него во рту. Проровнер вскидывал голову, открывал рот, пытаясь заговорить, и, не в силах вымолвить ни звука, опять погружался в странное свое, почти дремотное оцепенение.
Скоро латышу это надоело, и он сказал не без иронии:
— Ну так, и…
Проровнер вяло встрепенулся, зачем-то оглядываясь вокруг и непроизвольно ощупывая себя.
— Хорошо, — медленно, с трудом произнес он, пытаясь разжечь в себе надежду, — я вам расскажу всю свою жизнь с самого начала.
— Валяйте, — непроницаемо сказал латыш.
* * *
Проровнер начал рассказывать с самого детства, с отрочества, не для того, чтобы как-то разжалобить слушателей (в его детстве не было ничего особенно страшного), а для того, чтобы заставить их себе поверить, чтобы перевести разговор на человеческий язык, чтобы закрепить тот непрочный психологический контакт между собой и ими, который — он чувствовал — уже возник. Его прерывали лишь для уточнения каких-нибудь дат, но не просили излагать покороче. Латыш слушал с удовольствием, внимательно, и Проровнер, увлекшись, рассказывал уже совсем ненужные истории, семейные сценки, описывал гимназических учителей, университетских профессоров и тому подобное.
Допросы продолжались теперь весь день с небольшим перерывом на обед. Иногда, чтобы не останавливать повествования, Проровнер отказывался от прогулок.
От воинской службы он был освобожден по состоянию здоровья, в белой армии он не был, он даже не собирался удирать за границу, он был для этого слишком беден, и уехал, сбитый с истинного пути одной дамой, из рыцарских побуждений. Дама была по происхождению немкой, точнее австриячкой, и скоро бросила его, оставив ему двухлетнего сына. («Сколько раз мне предлагали отсюда забрать мальчика, переправить его в Союз, — сказал он в этом месте. — Как я жалею, что в свое время не настоял на этом. Ведь если б он был здесь, половина ваших подозрений отпала бы, правда?»)
Так он дошел до момента вербовки в 22-м году. Тут уже приходилось быть серьезней, он должен был вспомнить малейшие подробности свиданий с Раткевичем, размер полученных сумм, как вручались деньги, даже то, в какую газе ту были завернуты те «посылки», которые он оставлял в том или ином месте, и Проровнер не раз покрывался холодным потом от ужаса, что не сможет правильно отчитаться в какой-то детали, забудет день или час, когда они очередной раз встречались, забудет имя какого-нибудь участника организации, выданной им Раткевичу. Он начинал тянуть, незаметно петлять, выбирая способ, как обойти эту роковую деталь, припоминая или придумывая все новые обстоятельст ва, но — к его собственному величайшему изумлению — лишь только он подходил вплотную к пределу, за которым надо было уже стыдливо сказать: «Этого я не помню», как тут же мгновенно память, подстегнутая чувством опасности или просто натренированная за долгие годы, срабатывала, и, облегченно смеясь, Проровнер говорил: это произошло там-то, тогда-то, этого человека звали так-то. Он вообще вел себя с каждым днем все свободней, все уверенней: не торопился, не нервничал, курил папиросы латыша, позволяя себе порою запротестовать: «А может быть, на сегодня хватит? Давайте отдохнем». Порою он говорил также:
— Ну, я полагаю, вы проверили все это по вашим картотекам или вашим архивам и убедились, что я говорю вам абсолютную правду?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу