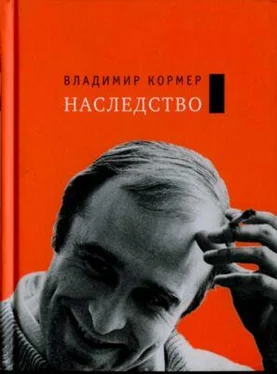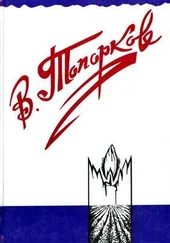— Безотцовщина — тяжелая вещь, — сказал Вирхов, ощущая потребность исповедоваться. — Смотрите, у наших ведь почти ни у кого нет отцов. Ни у вас, ни у меня. Я ведь тоже отца почти не помню. Моего отца посадили в тридцатом году, когда ему было двадцать два года. Не знаю, за что посадили, семейные легенды на этот счет расходятся. Скорей всего, за какую-нибудь ерунду. Ему и дали-то немного — всего три года, но по пятьдесят восьмой. Бабушка говорила, что его подзаложил приятель. Не знаю, так ли это… Отца потом выпустили, определили ему «минус шесть» [21] То есть запретили проживать в шести крупнейших городах.
, мать за него вышла замуж в самом тридцать седьмом году. Не думаю, чтобы они понимали этот шаг как героический, как у жен декабристов. Просто не представляли себе еще разворота событий. Считали, что вот-вот отцу разрешат вернуться в Москву, все будет в порядке. Остались отцовские письма, я их недавно у бабки читал, по письмам хорошо это видно. Ну вот, вместо того стало раскручиваться все это. У бабки сохранилась отцова трудовая книжка, еще не такая, как теперь, а на оберточной такой скверной бумаге со щепками. Там хорошо видно: «Уволен по сокращению штатов», «Уволен по сокращению штатов». Здесь, в Центральной России, устроиться явно уже было невозможно, их так и отодвигало постепенно на Восток, все дальше в Сибирь. Я родился уже под Красноярском, в таком местечке, где и сейчас, говорят, нет ничего, кроме лагерей. Отец умер в сорок третьем году, здоровье, видно, было уже подорвано окончательно… А мать так и осталась в Сибири…
Они сидели некоторое время молча. Она начала вдруг читать стихи, Марину Цветаеву, читала внезапно осевшим, прерывающимся голосом, со слезами на глазах:
Мне все равно, каких среди Лиц ощетиниваться пленным Львом…
— Господи, — сказала она, прочтя еще несколько стихотворений и совсем расстроившись, — как это отвратительно, что люди, которые прежде не пускали ее на порог, смеялись над нею, теперь пишут о ней статьи, воспоминания, анализируют, восхищаются!..
От холода и горя она совсем побледнела. Вирхов обнял ее за плечи, прижал к себе, другою рукою стиснув ее заледеневшие пальцы.
— Да, да, это так, — шептал он, не зная, как лучше ее утешить и доказать ей, что действительно понимает ее и сам думает так же.
Еще несколько минут они провели неподвижно, он все прижимал ее к себе, стараясь делать это нежнее и необиднее. Вдруг он заметил, что она не сопротивляется этому, вернее, сопротивляется, но не так, как могла бы. Тогда, уже не таясь, он обхватил ее обеими руками, придвигаясь вплотную к ней, приближая свое лицо к ее волосам, вдыхая ее запах и стараясь обратить ее лицом к себе. Она по-прежнему немного упиралась, но не так, как могла бы. Он услышал, как дыхание ее изменилось, она задышала чаще. Платок ее давно уже съехал назад. Вирхов поцеловал ее волосы, она отворачивала и прятала лицо. Он все-таки повернул ее к себе, но поцеловал не в губы, а неловко в лоб, в холодные щеки. Глаза ее были закрыты, лицо теперь поднято вверх. Он поцеловал еще. Прижался щекой к ее щеке. Отстранился, посмотрел на нее. У нее был такой вид, как будто ей было плохо с сердцем.
— Вам не плохо? — участливо и робко спросил он.
Не открывая глаз, она взяла его руку и положила к себе на грудь под пальто. Стараясь не оскорбить ее, он стал тихо гладить ее грудь, нащупывая через платье и понемногу сжимая все сильнее и откровеннее. Она трепетала и подавалась к нему всем телом, часто-часто дыша.
Наконец она очнулась и отстранила его руку. Открыв глаза и отодвинувшись от него, она застегнула пальто, поправила платок. Слабо улыбнулась Вирхову.
— Вот и я подверглась нападению бесов, — сказала она.
Проровнер действительно много лет работал на советскую разведку. Первое поручение он выполнил еще в 1922 году в Париже. Старый, еще петербургский знакомый, о котором Проровнер примерно знал, что он давно большевик и играет какую-то заметную роль в новой России, а здесь, в Париже, находится в служебной командировке, попросил его оказать дружескую услугу, оставить в нужном месте, на бульваре, на лавочке газетный сверток. Через пару месяцев тот знакомый, снова вернувшийся в командировку, попросил его о том же самом, но был готов уже оплатить работу. Проровнер отказывался, но, находясь в трудном положении, напоследок согласился. Ко всему прочему, у него на руках был тогда двухлетний сын, оставленный ему беспутной матерью-немкой. Чтобы обеспечить себя и ребенка, Проровнер выполнил еще несколько подобных же несложных поручений, получая за это небольшие суммы, а затем и сам проявил инициативу, рассказав своему знакомому про одну бе логвардейскую организацию, о делах которой был хорошо осведомлен, имея там друзей. Его работодатель просил уточнить некоторые сведения. Они долго беседовали в тот раз о том, каких убеждений придерживается Проровнер, и Проровнер говорил ему, что всегда, в сущности, был близок к марксизму, особенно же теперь, столкнувшись с западным буржуазным миром. Знакомый хвалил его, сказал, что в Москве уже знают о нем, что грехи его прощены и если он захочет, то всегда сможет вернуться в Россию, чтобы зажить спокойной и счастливой жизнью. Проровнер выяснил все, что мог, об этой организации, для чего ему понадобилось еще ближе сойтись с ее членами и фактически примкнуть к ней, так что он выполнял уже и их поручения и тоже полу чал за это кое-какие, хотя и меньше, суммы: организация все-таки была ничтожной. Затем он установил связи еще с некоторыми такими же организациями и кружками, регулярно поставляя данные о них сначала этому своему знакомому, а потом, когда того отозвали, другому человеку. С этим он работал уже более или менее четко — по заданиям, как настоящий резидент. Дружеских отношений не было, человек этот рассматривал себя, казалось, лишь как связного между резидентурой и Москвой. С третьим, сменившим его, уже точно было так. Его прислали, чтобы передать в ведение Проровнера еще какие-то явки, сообщить ему условные коды. Всякая доморощенность кончилась, но это было и кстати, потому что в это время Проровнер почувствовал себя впервые под подозрением: он допустил осечку, обнаружив вдруг в разговоре с главой своей организации, что знает то, о чем знать ему не полагалось. Тут же стало известно, что его домашние встречи с знакомым-большевиком были кем-то замечены. Проровнеру удалось выкрутиться, но с организацией пришлось порвать. С согласия Центра он перебрался в Берлин, затем в N. Задачей, поставленной ему, было изучение внутреннего состояния НСДАП, а позже, когда представилась возможность работать в патентном бюро, изучение промышленной структуры района. Организация лейтенанта Ашма-рина явилась для него просто счастливой находкой: с точки зрения основных задач участие в такой организации обеспечивало хорошую «крышу». Одобряя этот шаг, Москва недоучла природной активности своего резидента, а также общего низкого уровня членов организации. Проровнера буквально вынесло наверх — в теоретики Движения, остаться рядовым участником, скромным исполнителем он не мог.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу