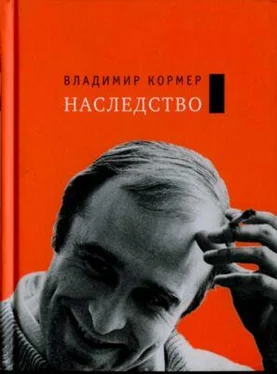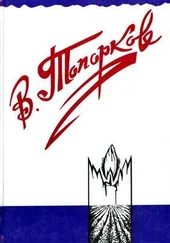Истерия — ведь это болезнь. Она и сейчас больна, по-настоящему больна, она только этого не понимает. К счастью, тогда все это быстро кончилось. У маминого мужа, Михаила Михайловича, начались новые неприятности, его снова могли посадить, и все от нас отвернулись. Это был пятидесятый год. И этот человек тоже испугался. Он старался не подать виду, приходил еще некоторое время, мы с ним были еще несколько раз у тети, но я видела, что он боится… Я тогда уехала куда глаза глядят. Жила совсем одна в Ленинграде. Вы любите этот город? В нем есть мистическая сила, но темная, больная. У меня там были удивительные ночи, какие-то звуки, голоса, видения… Боже, как там бывало страшно… Нет, нет, я не могу вам этого сказать! Я не стану вам рассказывать!.. Я пыталась, конечно, и там жить как все… За мной ухаживал один военный. Я даже подумывала, не выйти ли мне за него замуж. Это был уже взрослый человек, вдовец, почти седой, немножко старомодный даже. Приносил цветы, целовал руку… Я заставляла себя… Я тогда упала на колени и сказала: «А ведь я в Бога верую…» Он был очень возмущен. Но я больше не могла.
Она съежилась в своем стареньком кожаном пальто, сунув руки в рукава, как в муфту, и придвигалась как будто ближе к Вирхову, который опять боролся с желанием обнять ее за плечи.
— Я возвратилась в Москву, — вздохнув, продолжала она, — и здесь все закрутилось снова. Мама, Ольга… Ах, как они вцепились в меня, как они радовались! Мама кричала, что меня надо посадить в сумасшедший дом и что меня надо лечить принудительно, если я не хочу сама… Она всегда хотела выдать меня замуж. Сталин как раз умер, мама с Михаилом Михайловичем зажили хорошо, появились деньги, Михаил Михайлович на время пошел в гору. Дома стало бывать много народу. Мама все надеялась, что я «подыщу» себе кого-то, — так это, кажется, у них называется. Всё были какие-то сговоры, какие-то прямо заговоры, тайные телефонные звонки, какие-то подстроенные встречи, с кем-то меня все хотели оставить одну… Боже мой, как Ольга в этот раз снова напомнила мне все это! Всё, всё тогда полностью, совсем было враждебно мне! То есть не я была враждебна, а хотела и могла — даже лучше, по совести сказать, чем теперь, — в каждом из них видеть «образ и подобие», а они не могли меня принять. И очень точно, очень верно («по-мир-ски», но ведь верно, у них все верно — «разум разумных») видели меня насквозь. Знаете, они как будто видели пустое, неоживленное и не объясненное Богом, нечто такое дрожащее и жалкое… Я и в этот раз с Ольгой всплакнула… Отчего? — сама не знаю. Отчасти — о «мире», отчасти — она просто какое-то наводит поле (как ведьма, упаси Господь), и все как-то мешается и дрожит, как бы узор дрожит и хочет не-быть. С нею я всегда разрывалась между попыткой не сказать «рака» и, кстати, не обидеть ее: ты, мол, «от мира сего» и водишься со всякой швалью, а я вот «неоскверненный от мира» — и каким-то мистическим ощущением, как от запаха, — не могу вместить!
— Вы, наверное, все-таки принимаете все это слишком близко к сердцу, — повторил свое Вирхов, ощущая в то же время, насколько ему понятен ужас, который должна была пережить тогда эта хорошенькая, утонченная, неопытная девушка, брошенная в мир, где каждый встречный думал, наверное, лишь про то, как быстрее изнасиловать ее. Страх, которого она не умела скрывать, должен был провоцировать с их стороны жестокость. Вспомнил он и себя в юно сти: долго не покидавшее его ощущение собственной слабости, постоянного стыда, глупости своих поступков и болезненности видений. Несомненно, она чувствовала в себе то же самое. — Вы совсем замерзли, — нежно сказал он ей, осмеливаясь наконец чуть-чуть приобнять ее. — Пойдемте погреемся. Вам нужно быть осторожнее после гриппа. Сейчас ведь, говорят, после него всякие осложнения.
Ребятишкам тем временем удалось распалить костер, и самый маленький и прыткий из них то и дело бегал на улицу за угол, приволакивая очередной ящик. Другие двое, найдя где-то здесь же несколько старых гнилых картофелин, пекли их, насадивши на проволоку и сунув в самое жаркое пламя. Вирхов и Таня стали поодаль.
— Нет, вы не правы, — возразила она, подставляя руки огню. — Я же не сказала в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Нет, всякий человек — человек под этой ложью, и эта правда реальней всего. Тут важно видеть Иова (не потенциального, а реального) под всеми Man, видеть ребенка, скажем, или больного, в ту минуту, когда он цепляется, цепляется… и… — вот он, вот ужас, а больше ничего нет…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу