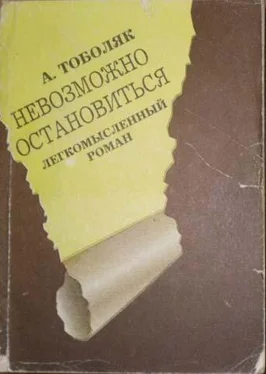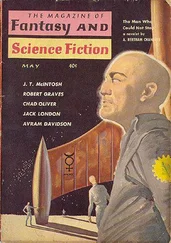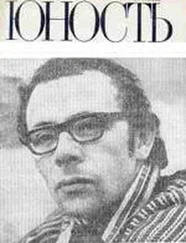— Конечно, не местный. Заметила? Я от вас, местных, отличаюсь своей неиспорченностью.
— Какой забавный!
— А мне уже больше сорока лет, — сообщаю я и чувствую, что поездное трехдневное воздержание пошло на пользу: лимонная водка сразу, без колебаний бьет по моим мозговым центрам, преображая и приукрашивая этот шумный, дымный зал.
— А выглядишь моложе, — сомневается она.
— А потому что неиспорченный, как вы все здесь.
— А откуда ты?
Она ставит локти на стол — руки худые, в красных пятнах — сжимая в ладонях бокал.
— Я с Дальнего Востока. Иначе говоря, я дальневосточник. Но родился я в другом месте. Я родился…
— Давай выпьем, — перебивает она.
— Давай выпьем, согласен. Ешь тарталетку. Я могу заказать много тарталеток, если понадобится.
— А ты кто? Прозаик или кто?
— Я прежде всего человек, Маруся, неиспорченный, как все вы здесь. А уж затем я, конечно, нерядовой прозаик.
— А как фамилия? Я знаю?
— Наверняка знаешь. Но я не скажу.
— А моя Зубова. Слышал?
— Прости, никогда. Но ты можешь что-нибудь почитать… попозже. Давай, значит, выпьем.
— Давай, забавный, — страшно улыбается она.
Что ж это она во мне находит забавного, в серьезном нерядовом прозаике? Ну, ладно. Не буду выяснять.
— За твои стихи, Маруся, — предлагаю я тост. Она вдруг хищно ощеривается.
— Издеваешься?
— Нет. Почему издеваюсь?
— Здесь за чужие никто не пьет.
— А вот я хочу и пью.
— Ты не гад, я вижу. А эти все, — обводит она рукой зал, — подонки!
— Так уж и все? — сомневаюсь я.
— Все!
Я решаю не спорить. С поэтессами лучше не спорить. Они очень ранимые. Ну, в том смысле, что они очень ранимые. У них такие нежные, ранимые души, как пыльца на крыльях бабочек, даже у таких страшных, как Маруся. Вот именно.
Мы оба закуриваем. И Маруся — не моя утробная, внутренняя, а эта, живая, — с ненавистью говорит, глядя в зал:
— Твари!! Убила бы их! Я очень огорчаюсь.
— За что же, Маруся, ты их так не любишь?
— Вон ту светлую слева видишь?
— Вижу.
— Сука!
— О!
— А рядом с ней кругломордая, видишь?
— Вижу.
— Ух, блядь! Смоковница бесплодная!
— Ай-я-яй, Маруся! Нехорошо говоришь.
— Хочешь, я их сюда позову?
— Нет, не надо. Зачем нам в компании сука да блядь? Не надо.
— Они прибегут, только кликни. Знаешь, как они меня подсиживают? Ух, твари! А вон тот с ними, в курточке, видишь? Гомик и графоман, — злобно определяет она.
Куда же это я, интересно, попал, что за общество такое? И в самой Марусе что-то есть от Собакевича, думаю я огорченно.
— А ты хороший, — вдруг нежно произносит она, заглядывая мне в глаза.
— С чего так решила?
— Я людей понимаю. Ты только подсел, я сразу поняла. Закажи еще, а? Можешь?
— Могу, конечно. Заказать всегда можно. А тебе не хватит, Маруся?
— Эх, Витька, пить так пить! У меня жизнь такая, ты бы знал!
— А что такое?
— Мать у меня сука. Отец алкаш. Они меня из дому выкинули, как тварь. Я по квартирам уже два года ночую. А я Литинститут окончила, понимаешь?
— Да, несладко тебе. А мужа нет?
— Какой на хер муж! На хер мне мужики! Со мной одна падла жила да и та сбежала.
— Гадина! — говорю я убежденно, поняв свою ошибку.
— Вот такая, Витька, жизнь, — с горечью заключает она и вдруг я вижу, что по ее накрашенной, бугристой щеке катится слеза. Я поспешно кладу ладонь на ее руку.
— Ладно, перестань, Маруся. Все поправимо. Жизнь, она, знаешь, какая непредсказуемая. Сегодня бывает плохо, а завтра бывает хорошо, — несу я несусветицу. — Я так считаю, что хорошо бывает чаще, чем плохо. Вот я тоже человек одинокий, хотя я дальневосточник. («При чем тут дальневосточник?») А я держусь. Голову в петлю пока не сунул. Не плачь.
— Не буду.
— Правильно.
— А ты обними меня, а? Пусть эти суки позавидуют!
Та-ак. Добился Теодоров. Напросился. А ведь не хотел же заводить беседу.
— Надо ли, Маруся? Зачем их раздражать?
— Ну, обними. На минутку! — просит она.
Я кладу ей руку на плечи, притягиваю к себе. А если попросит поцеловать, то тут уж я не смогу ей помочь, это точно. Маруся улыбается широко и торжествующе, глядя в зал. Идиотское, надо сказать, положение!
— Хватит? — спрашиваю я.
— Ага. Спасибо, — чмокает она меня в щеку. (Ужас!..)
— Пожалуйста, — отвечаю я машинально.
Встаю и иду между столиками. С того столика, где компания Марусиных знакомых — сука, блядь и гомик-графоман — на меня смотрят, как на придурка. Может быть, я ушел бы сейчас, да и надо бы уйти к Соне Авербах-Голубчик, но почему-то данное Марусе обязательство кажется мне святым, грозящим небесной карой, если его не выполню. Ну, ничего! — говорю я себе. Мне ничего не угрожает с Марусиной стороны. Ее поцелуем можно даже гордиться. Подожду еще немного Костю Киселева, вдруг его отпустят на волю. «Противный Костя!» — думаю я капризно и ошарашенно замираю — будто лбом ударился в стену — от этого словечка «противный», которое, несомненно, из лексикона сексуальных меньшинств. Чур, чур! — мысленно крещусь я. Жуткий все-таки Дом! Здесь можно не заметив потерять невинность… и если бы только это. Я прямо-таки физически ощущаю, как пронзают меня насквозь, навылет злобно жужжащие флюиды зависти, корысти, оголтелой агрессивности со своими особыми голосами, повадками, разительно отличающимися от чистых, неподкупных токов, которые управляют мной — и тобой, друг, и тобой, надеюсь! — в тишине самопогружения, в светлые часы бдения над чистым листом бумаги… нет, не поддамся! Я трясу головой, прихожу в себя, улыбаюсь — и вот опять легко и бесшумно плывут в моих глазах столики, бокалы, клубы дыма, просветляются и облагораживаются лица — так я хочу! Это называется жизнью — читай: развлечением, забавой, игрой, мистификацией — единственной, легкомысленной и чудесной жизнью, в которой невозможно, значит, ну никак остановиться.
Читать дальше