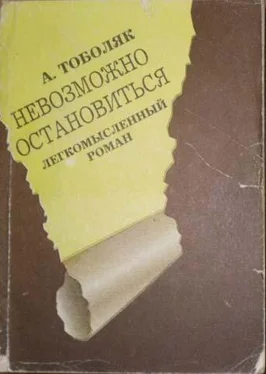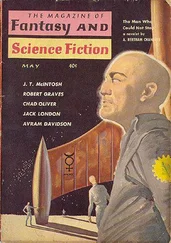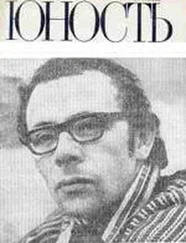Ну и ладно! Это Теодоров как-нибудь переживет. Но Маруся! Что произошло с ней за эту промелькнувшую неделю? С недоумением и брезгливостью вчитывается Теодоров в ее похождения. Он испуган, сражен, подавлен. Господи! Где же его славная, незаурядная Маруся? Кто и как сумел подменить ее этой примитивной ходульной однофамилицей? Кто, какой злоумышленник, какой бездарь так поработал в отсутствие Теодорова над его рукописью? Неправда правит бал на этих листах. Тошно мне, тошно. Только под угрозой заключения в одиночку можно читать такой текст. И Теодоров, осилив лишь две трети полуфабриката о Марусе, отшвыривает стопку листов. Они разлетаются по кухне и устилают пол, как… как… как обожравшиеся дохлые чайки. Он сидит как мертвый, пока сигарета не обжигает пальцы. Так. Так. Вот так. Значит, все-таки не бесследно проходят его упорные гомерические возлияния? Деградирует, да? Паутина затягивает мозги. С коротким писком массово погибают, как лемминги, нервные клетки. Тускнеет, теряя накал, воображение. Скудеет, лишайсь притока слов, память. Замедляется бег крови. И вот уже потеряно главнейшее — способность к самосуду. И вот уже смелым подъемом на Джомолунгму кажется то, что на самом деле — крутой спуск к бесплодным каменистым плоскогорьям. Иначе как бы он мог допустить такую оплошку с Марусей? Мертворожденная деваха! Сколько дней он, как некрофил, наслаждался ей! Что будем делать, Теодоров?
Илюша выдает мне остатки денег из сейфа. Лучше не считать их: и без того ясно, что с коммерческими магазинами придется подождать. Но поездка на материк еще пока возможна, и я звоню Никодимову. Уполномоченный литфонда изволят острить: наверняка, дескать, сегодня выпадет снег, ибо Теодоров трезв. «Пошел на х..!» — мысленно отвечаю я ему. Не расположен я слушать сегодня ветеранские шуточки. Никодимов один из тех, кто не добреет и не мудреет с возрастом, а наоборот, ожесточается на всех, кто моложе его… вот что странно. Но с путевкой все в порядке. Москва обещает мне отдых в Малеевке, и Никодимов, хочет он того или нет, обязан выдать проездные деньги.
С поездкой, таким образом, проясняется. С Марусей тоже все ясно: ее не воскресить. Марусю надо кремировать, а пепел развеять по ветру. А что мне делать с Елизаветой Семеновой? С ней не разделаешься так просто.
Я звоню в редакцию газеты «Свобода». Отвечает не кто-нибудь, а Суни. Ее-то голосок с легким международным акцентом я способен отличить от других.
— Слушай, — говорю я зло и нетерпеливо, — какого черта ты уехала и…
Сразу же идут короткие гудки: это Суни, не дослушав, бросила трубку. Та-ак! Не желает, значит, кореяночка беседовать со мной. А почему? Одно из двух: или я, будучи невменяемым в тот Ивановский вечер, выгнал ее из дома, или нестерпимо оскорбил другим изощренным способом. Та-ак!
Прошу у Илюши телефонный справочник и набираю приемную редактора. Откликается какая-то девица, секретарша, по-видимому. Я прошу пригласить к телефону Семенову. Очень нужно. Срочное дело. Звонят по междугородной.
— Одну минуту, подождите, — отвечает она. Короткая тишина, а затем:
— Але! Вы слушаете? Ее сегодня, к сожалению, не будет. Что-нибудь передать?
— А она в городе вообще-то?
— Да, она приехала, но сегодня работает дома. Передать что-нибудь?
Не отвечая, я кладу трубку. Та-ак! Работает, значит, дома. Приехала, значит, а зайти к Теодорову не удосужилась, не соизволила, не захотела. Придется, значит, ее кремировать, как Марусеньку… то есть вычеркнуть напрочь из памяти. Все одно к одному. Все одно к одному. Все одно, Ваня, к одному.
— Пойдем выпьем, Илья, — растерянно предлагаю я. Илюша суеверно отшатывается: сгинь, сгинь! Он завязал, и надолго. И мне тоже советует.
Все правильно! То есть жизнь продолжается своим чередом — и ни уход Вани, ни Марусино бесовское перерождение, ни Лизино отступничество не изменили ровного, целенаправленного ее течения. А Теодоров… что ж Теодоров!.. он всего лишь малая демографическая величина, которую можно не принимать во внимание.
Прощаюсь с Ильей и еду… куда? В медицинское училище, конечно. А зачем? А вот хочу, предположим, повидаться с вахтершей, с той самой, что не открыла мне дверь, а затем вызвала милицейский наряд. Хочу взглянуть в ее честные глаза. Хочу поблагодарить за бдительность эту стойкую женщину, эту хранительницу девичьей непорочности. (Так разогреваю себя в автобусе.)
На вахте, однако, никого нет. Входи, кто пожелает, насилуй кого угодно! Что ж, посетим в таком случае жилицу 309-й комнаты, усмехаюсь я, как сатир, и с кривой усмешкой на губах поднимаюсь на третий этаж. Мимо проскальзывают, пробегают всякие разные… толстые и тонкие, черные и белые… великое множество их тут обитает, и мое горячечное воображение вдруг услужливо рисует жуткую картину коллективной, поэтажной мастурбации в этом здании… меня передергивает.
Читать дальше