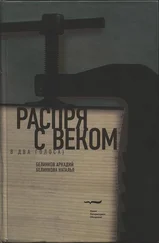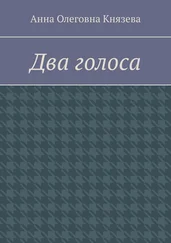Веранда для танцев стояла в болотце, на деревянном настиле, окруженная желтушным забором с коричневыми столбами. Уродливый бетонный трилистник кровли защищал ее от дождя, но и там пахло человеком, прокисшей сыростью и куревом. Сквозняк обдавал плечи, а истошное сияние неприкрытых ламп резало глаза.
Оркестр состоял из краснолицых молодых людей, которые не знали в точности ни одной мелодии, так что любая пьеса выходила у них такой затянутой, такой унылой, что для придания ритма потный ударник принужден был без конца дергаться над своими инструментами, одновременно отбивая барабанный такт и срывая звуки с визгливых тарелок.
Плотная толпа танцующих на истертых досках площадки сначала удивила невыразительностью физиономий. От слишком яркого верхнего света зловещий серый оттенок лежал на лицах и делал черными глазные орбиты и углы ртов, а лбы и щеки отпугивающе блестели жирной белизной.
Тщедушные четырнадцати-пятнадцатилетние девочки с волосами, протравленными перекисью водорода до желтизны, и грубо обведенными карандашом глазами, были в танце почти угрюмы. Взгляд уставлен в пространство чуть выше плеча партнера. Их облик вызвал у нашей героини жалость: острые ороговевшие локти, куцые юбки, бледные ноги с синим отливом гусиной кожи и по-птичьи сухими подколенными углублениями. Сквозь майку едва угадывалась неразвитая грудь, лопатки и вертикаль позвоночника.
Несколько блондинок постарше — в белых водолазках и с распущенными волосами, эдакие феи, — демонстрировали выразительные выпуклости, мощный бюст, недержимый лифом, вывороченные губы. Щеки красавиц, лишенные плотской упругости, мотались по сторонам лица, чуть отставая в плясовом движении от остального тела.
Серые обветренные руки девушек с плоскими широкими ногтями, покрытыми ярким лаком, вжимались в предплечья кавалеров. Одна из танцорок красовалась в замше; полоска бахромы, едва прикрывая ягодицы, болталась, невольно привлекая взгляд к этому нервно переступающему с ноги на ногу хилому существу.
Прыщавые длинноволосые юнцы с неподвижными плечами, в брюках-клеш или джинсах, отделанных понизу полоской от металлической “молнии”, отплясывали, не глядя на своих дам.
Некоторые пары танцевали, тесно сдвинувшись и сомкнув лбы. Их лица, разомлевшие от близости, выделялись в толпе румянцем, блеском глаз и размазанностью очертаний ртов, набухших нежностью.
Жутко было смотреть на эту толпу, колышащуюся в чудовищно искаженных банальных мелодиях.
“Страшная молодежь!” — говорила она по пути домой.
“Какое нам дело!” — отвечал раздосадованно ее строгий возлюбленный, не прощая ей впустую потраченного вечера, этого ее интереса к низменному.
“Я чувствую вину. Это мой народ!” — темпераментно возражала она ему со своим дурацким народническим пафосом.
“Это не народ, а население”.
“Они несчастны”.
“Нет, они все счастливы, но не по-нашему”, — отрезал своей спорщице наш угрюмец.
Сам он разглядывал и сортировал лица в транспорте, выискивал колоритные типы — то старуху в глухом темном платье, с челюстями, по-брейгелевски окостенелыми, то в германском духе голову мужчины: крупный благородный нос и борода с пятном седины. Когда они увидели этого человека на улице, вдруг вместе в один голос вскрикнули: “Гольбейн!”, пугая прохожих. И посещение танцплощадки, вид людей с печатью пропащей жизни на полупьяных лицах не прошли даром. Он задумал вырезать и запечатлеть это ощущение комка тел, но так, чтоб видение не было сатирическим. Он не хотел шаржа, той издевки в изображении страшноватых масок, какую знал в приемах немецкого экспрессионизма. Тут надо было, чтоб читалась трагедия.
Вернувшись в свою кукольную квартиру с коричневыми разводами на потолке и щелястыми полами, они снова и снова искали друг друга руками в темноте. И тогда, смешивая воспоминания с толкованьем недавних событий, ощущая значительность внезапно выплывавших из памяти эпизодов своей судьбы, она говорила, что давно, заранее готова была к этому чердачному бытию, что всеми пристрастиями была предопределена такая романтическая жизнь. И чужие стихи расцветали в ней, это “таянье Андов”. И он видел, как уходила ее фальшивость, привитая целой системой стандартной педагогики и советского искусства, и он дожидался глупого, почти неприличного, хмельного ее лепета, несуразных и смешных слов и похвал его телу, когда, отверзая себя, она ступнями держала его, чтоб теснее приникнуть. И этот выдох радости — почти беззвучный, сильный поток воздуха, вытолкнутого из легких стенанием “Боже мой!”
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](/books/67136/anatolij-afanasev-melodiya-na-dva-golosa-sbornik-thumb.webp)