Сил нам нет кружится доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали… «Что там в поле?» —
«Кто их знает? пень иль волк?»
Вьюга злится, вьюга плачет;
Кони чуткие храпят;
Вон уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;
Кони снова понеслися;
Колокольчик дин-дин-дин…
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне…
* * *
Сколько уже времени прошло, а с каждым новым утром боль, — короткая, но пронзительная, как укол, — возвращалась. По радио начинали играть гимн, Лиза сладко потягивалась и тянула руку к соседней подушке. «Эй, лежебока». Рука падала на мягкое, прохладное — и пустое. И тут Лиза окончательно просыпалась, уже не надеясь услышать ответ: «Вот послал Бог жаворонка». В те дни, когда Миша пропал эта пустота, это молчание делали ее сильнее. Она знала, что нужна мужу, что он вернется, обязательно вернется, что виной всему непредвиденные обстоятельства или непутевый Мишкин характер… А потом был тот день — холодный и застывший, как тот лес, где проходило опознание. И как она до последнего надеялась, что чашу эту горькую пронесут мимо нее. Ведь такого просто не могла быть — по определению: «У нас впереди еще целая жизнь, солнышко» — любил говорить Миша. «Счастливая жизнь» — добавляла она, прижимаясь к нему. Миша не был красавцем, но для нее не существовало лучше человека не всем свете, ибо не знал свет человека добрее, надежнее, вернее…
И вот теперь вокруг какие-то люди, зажимающие носы. И — вопрос: «Вы узнаете…» Нет, нет, не узнаю! Только… Перстень… этот перстень в форме жука-скарабея. «Он мне удачу приносит, солнышко…»
Там, в лесу под Ольшанкой в ее сердце сначала вошла пустота. Потеря мальчика только усугубила депрессию — ребенок стал бы ей живой памятью о Мише. Не стал… С Лизой, будто заботливая нянька, возилась Галина Глазунова, Вадим Петрович устраивал какие-то лечебные сеансы. Все вокруг говорили правильные слова, она слушала, благодарила, и мечтала только об одном, — чтобы все, все, все, даже Галина, даже Любашка Братищева оставили ее в покое. Незаметно для себя, Лиза полюбила ночи. С ними приходило забвение, боль отступала. А сны были все больше добрые и цветные. Одна бабушка-нищенка у дверей храма сказала ей, благодаря за подаяние: «Ему там хорошо, доченька». Но Лиза не могла зацепиться за эту спасительную надежду: почему ему хорошо не здесь, со мной, а где-то там, откуда еще никто не вернулся?
И постепенно пустоту заполнила холодная спокойная злость. Лиза понимала, что не права, но ничего не могла с собой поделать, — она ревновала к Мише всех, кто оставался на земле. Кто ходил по ней, улыбался, растил детей, жаловался на дороговизну, на здоровье, на все-таки жил. А когда Галина и Вадим позвали ее в гости, — они встречали воскресшего из небытия друга, — Лиза поймала себя на мысли, что просто ненавидит этого странного человека с чудным именем Асинкрит. Надо же, Бог знает, где пропадал несколько лет, попал в аварию, остался жив, один из немногих, а теперь все нянчились с ним: «Ах, Асик, помнишь», «Ах, Асик, как мы рады». А если бы тебя молотком по голове, и в яму, как Мишу…
Хотя, он, конечно, псих, Асинкрит этот, но оказался наблюдательным. Значит, не глуп. Галина передала, что их гость заметил про нее, Лизу: «была вся в себе, не с нами». Верно, еле дождалась, когда можно будет уйти.
Если не спасением, то отдушиной, стала работа. Лиза пешком шла на знакомую улицу, входила в старинный дом, — раньше он принадлежал потомственным почетным гражданам купцам первой гильдии Шуваевым, а ныне здесь располагался художественно-краеведческий музей. Если сначала пройти через отдел «Флора и фауна нашего края», а затем подняться по видавшей виды винтовой лестнице на третий этаж, то попадешь в маленький кабинет, который Лиза делила с милейшей Аделаидой Степановной Закряжской, чьей специализацией были местные литераторы. Первым в ее почетном списке стоял легендарный летописец Нестор, а замыкал его Евгений Евгеньевич Плошкин, писавший под псевдонимом Озерский. Плошкин-Озерский приходил к Закрежской почти каждый день и читал, немного подвывая, свои вирши. Лиза слегка морщилась, но молчала, и даже находила в себе силы говорить с улыбкой: «Замечательные стихи», кляня при этом свое малодушие.
Читать дальше



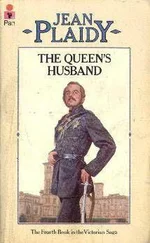


![Виктор Баранец - Офицерский крест [Служба и любовь полковника Генштаба] [litres]](/books/393850/viktor-baranec-oficerskij-krest-sluzhba-i-lyubov-p-thumb.webp)


