Он стоял возле бабушки и ждал, пока она выплачется, пока лицо ее не обсохнет и не окаменеет, что будет означать конец целительной беседы с теми, кто здесь лежал. Без слез, со сжатыми губами оплакивала бабушка ту, которой здесь не было. Эстуся Асман лежала где-то на лычковском кладбище во Львове, возле своего непутевого красавчика, теперь, после смерти, утраченная для матери еще более, чем при жизни. Внука в эти минуты бабушка старалась не замечать, хотя из-под темных, спадавших на лоб волос на нее смотрели миндалевидные глаза Эстуси, но все другие черты лица, разительно славянские, он унаследовал от отца. Без всякой нежности тащила она его тогда за руку к воротам и смягчалась, лишь выйдя на широкую асфальтированную улицу, пересекавшую весь город от казарм и Дома отдыха офицеров до самого пограничного моста. Улица эта, заасфальтированная, кажется, в ту пору, когда в Залещики должен был приехать на отдых сам маршал Пилсудский, являлась неизменным предметом гордости всех граждан города. Из-за близости границы движение по ней не было оживленным, и пользовались улицей в основном пешеходы. Бабушка всегда шла по самой середине с высоко поднятой головой, словно и ее заслуга была в том, что у людей под ногами здесь гладкий асфальт, а не какой-нибудь булыжник.
Все еще в молчаливом отчуждении они пересекали крохотную, празднично пустынную центральную площадь, проходили мимо запертого на замок магистрата и дремлющей до полудня «Варшавянки» с ежевечерним в ней дансингом. Разговаривать бабушка начинала только возле особняка барона: ее чрезвычайно занимало, не открыты ли часом ставни и не появился ли сам пан барон в своем родовом гнезде. Тогда это означало бы, что, возможно, в один из дней, пребывая в особо добром расположении духа, он вспомнит о тех трехстах злотых, что был ей должен, и пришлет их с ключницей Палашкой, охранявшей дом в отсутствие пана барона и прислуживавшей ему, когда он приезжал.
Случалось, пан барон являлся в лавку собственной персоной. Каждый раз — на автомобиле, хотя от особняка до лавки не было, наверное, и четверти километра. Он распахивал дверцу, выскакивал из машины, неизменно моложавый, спортивного вида, в каскетке, твидовом пиджаке, брюках гольф и клетчатых гетрах. Бабушка выходила из-за прилавка навстречу, светясь улыбкой, с готовностью услужить. Пан барон снимал перчатку и подавал ей руку.
— Как здоровье, пани Асман, — говорил он. Не спрашивал, а именно говорил, на самом деле его отнюдь не интересовало ее здоровье, и она отвечала кратко, но с достоинством:
— Спасибо, пан барон.
После таких приветствий не могло быть, конечно, и речи о деньгах.
Барон подходил к полке с винами, хвалил их марки, удивлялся, что бабушка так хорошо в них разбирается, и в конце концов приказывал отослать к себе несколько бутылок.
Бабушка, затаив дыхание, спрашивала:
— Пан барон заплатит наличными или записать на счет?
— На счет, на счет, пани Асман, — отвечал барон рассеянно.
И снова подавал бабушке руку и легким шагом выходил из лавки. Люди в городке говорили, что, когда он однажды преклонил в костеле колена, подошвы его ботинок оказались стоптанными до дыр. «Но автомобиль имеет», — ворчала бабушка. А женился он, говорят, на крупном имении где-то под Ярославлем, может, у жены голова помудрее, и сидят они в этом имении пока без извечного страха перед судебным исполнителем и кредиторами, перед которыми дрожит большинство обедневшей аристократии, разорившейся из-за мотовства, чрезмерной доверчивости к управляющим и своей бесхозяйственности. Способствовала тому еще и война, поскольку установленные после нее новые границы оставили часть имений за Збручем. Человек беднеет быстрее, чем богатеет, вот и барон стал тем, кем стал, — должником Сары Асман из-за каких-то несчастных трехсот злотых, которых не в состоянии ей отдать.
— Разве это гешефт, — шептала бабушка по вечерам, проверяя счета. — Разве это гешефт, если мои деньги не у меня, а у чужих людей? Пусть бы уж они были на каком-нибудь проценте, но они ни на каком не на проценте, они совсем теряют цену, если их не пускать в оборот. — Еремчик! — говорила вдруг бабушка громко. — Запомни себе как следует, Еремчик, что говорит тебе твоя бабушка! Никогда никому не давай в кредит! Кредит — это смерть деньгам и лавке. Даже если перед тобой упадут на колени, будут бить себя в грудь и клясться, что завтра отдадут, — будь как скала, Еремчик, будь…
Тут бабушка спохватывалась и на полуслове умолкала, ибо вспоминала, что он не должен стоять за прилавком в магазине, а в Америке или еще где-нибудь должен выходить во фраке на большую сцену, садиться за рояль и играть, играть как Падеревский… [8] Падеревский, Игнацы (1860—1941) — польский пианист, композитор, политический деятель. В январе — ноябре 1939 г. — премьер-министр и министр иностранных дел Польши.
Читать дальше





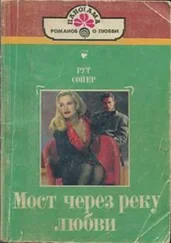

![Ольга Богатикова - На Калиновом мосту над рекой Смородинкой [СИ]](/books/400196/olga-bogatikova-na-kalinovom-mostu-nad-rekoj-smor-thumb.webp)




