У него же во время этих прогулок наибольший интерес вызывал Янко, сидевший в лохмотьях у стены костела. Этот Янко имел, наверное, столько денег, что мог купить себе одежду самую лучшую и самую дорогую из той, которую лодзинские евреи-торговцы привозили на ежегодную праздничную ярмарку. Но он предпочитал носить свои отрепья, возможно, этого требовало покаяние, а может, лохмотья просто непременный атрибут профессионального одеяния нищего. Ведь кто бы ни подходил поближе, чтобы лучше его рассмотреть и убедиться, жив ли он еще под ворохом своего тряпья с копной никогда не стриженных волос и лохматой бороды, непременно бросал монету в лежавшую на земле шапку. Каждое воскресенье в нее попадали и пять грошей Сары Асман. Он всегда просил бабушку разрешить ему самому отнести подаяние и, до жути боясь нищего, дрожа от ужаса и волнения, шел к нему, испытывая чувство гадливости и любопытства.
— Не гляди на него так, — говорила бабушка, — а то он наведет на тебя порчу.
Он не знал, что такое «порча», и оттого боялся еще больше и еще больше ему хотелось увидеть способные «навести порчу» глаза Янко. Но бабушка оттаскивала его за руку, и, выбравшись из толпы перед костелом, они шли дальше, иногда в сторону «Сокола» и вокзала, чтобы посмотреть — если дело происходило летом — на приезжавших и отъезжавших курортников, иногда — к особняку барона и дальше, к мосту, разрушенному еще во время первой мировой войны и восстановленному только перед началом второй, а иногда — и туда они ходили чаще всего — на киркут, еврейское кладбище, на сланцевой скале над солнечным пляжем.
Здесь, на кладбище, бабушка всегда горько плакала.
Он не пытался ее утешать, зная, что каждый раз после таких слез бабушка уходила с дорогих ей могил как бы умиротворенная и утешенная надеждой, что место под каменным надгробием на высокой скале над Днестром с видом на румынский сахарный завод — это все-таки некая ясная перспектива, сулящая в будущем несуетный покой без налогов и без долгов, никогда не возвращаемых покупателями ее лавки. Испрашивала она здесь и разные мудрые советы у отца, до тонкостей разбиравшегося в торговле, или у мужа, вовсе в ней не разбиравшегося, но зато имевшего доброе еврейское сердце, при одном воспоминании о котором смягчалось ее собственное, когда ей казалось, что оно слишком ожесточилось и очерствело в неустанной борьбе за деньги. «Папочка, — говорила она, — разве я должна иметь в своей лавке только самый перший сорт? Не те теперь времена. Если у людей нет денег и они хотят брать в кредит, то из-за этого першего сорта мне больше убытков, чем прибытков. Я таки знаю, папочка, знаю: если бы Сара Асман не держала в своей лавке все самое лучшее, что есть на белом свете, ко мне не присылали бы за покупками своих кухарок пан староста, пан бургомистр, пан аптекарь и пан доктор Садко, пан адвокат Левенфиш, у которого жена ест только кошерное, будто какая-нибудь принцесса, и еще пан судья и пан повятовый архитектор, ксендз, поп и раввин, пан директор школы, пан директор гимназии и пан директор семинарии и даже сам полицмейстер. Если бы в лавке Сары Асман не водилось все самое лучшее, к ней не приходили бы знатные паненки за шоколадом, халвой, фисташками и сладкими рожками, не приходили бы молодые паны за папиросами и пльзенским пивом, румынские офицеры — за кофе, когда им не завезли его из Черновиц. Все это чудно, папочка. Человек рад, когда у него есть такая лавка — лучшая во всем городе. Но спрашивается: что я с этого имею? Если даже один паршивец берет в кредит и не возвращает долг, весь гешефт идет прахом. А таких паршивцев много. Но с ними я бы еще управилась. А что делать, когда приходят те, кто, я знаю, никогда не сможет заплатить — вся эта польская, еврейская и русская голытьба, что смотрит на полки и перебирает в кармане свои последние медяки. Что я могу поделать, когда приходит Самуильчик Блюменблау?..» О Самуильчике бабушка разговаривала уже не с отцом, а с мужем, Ароном Асманом, имевшим такое доброе, что даже больное от этой доброты, сердце. «Арон, — говорила она, — что я могу поделать, когда приходит Самуильчик Блюменблау? Он встает на пороге лавки, не закрывая даже дверь, словно хочет тут же убежать, а его испуганные огромные глазенки как две сливины, кажется, вот-вот оросятся дождем, и он не может выговорить ни слова, так дрожат у него губы и подбородок. Какой же это гешефт, если я д о л ж н а давать ему и муку, и сахар, и селедку. Спрашивается, почему? Какое мне дело, что этот негодник портной Блюменблау что ни год делает ребенка своей трахомной забитой жене? При чем тут я? Почему я должна переживать за этих несчастных сопляков и думать ночами напролет, что мой добрый Арон перевернется в гробу, если я хоть раз отправлю этого сморкатого Самуильчика с пустыми руками».
Читать дальше





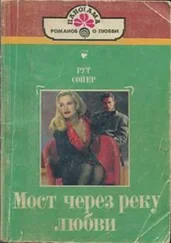

![Ольга Богатикова - На Калиновом мосту над рекой Смородинкой [СИ]](/books/400196/olga-bogatikova-na-kalinovom-mostu-nad-rekoj-smor-thumb.webp)




