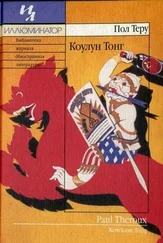Только счастливый человек может понять, что лучшее на Гавайях — сами гавайцы, говорил Пи-Ви, их нынешняя жизнь и история народа — воинов, мореходов, рыбаков, музыкантов, любовников. Их легенды столь же величавы и фантастичны, как и классические мифы, полны гигантов и демонов, волшебников и сказочных существ.
Сегодня Гавайи — словно красивая, но расколотая чаша из дерева коа: о ее красоте можно судить по обломкам, а некоторые даже пытаются, без особого успеха, восстановить из осколков целое. Достойные, но тщетные усилия: слишком много мелких щепок, а кое-какие фрагменты и вовсе потеряны. Даже если б удалось сложить чашу, это был бы всего-навсего склеенный из кусочков деревянный сосуд, хрупкая реликвия прошлого.
Иногда по ночам, когда ресторан закрывался, я наблюдал, как Пи-Ви сидит на кухне, склонившись над столом для разделки мяса, и словно украдкой читает книгу, косясь на страницы здоровым глазом. То были книги Джеймса Миченера, Роберта Льюиса Стивенсона. Однажды я увидел у него в руках свою книгу.
— Что это ты за нее взялся?
— Это пвекасно!
Я растерялся. Мой отец тоже читал мои книги как бы украдкой, одним глазком, не зная, что и сказать о них, как соединить в своем уме автора скабрезного романа с тем молодым человеком, каким он представлял себе своего сына. По-видимому, проблема озадачивала и Пи-Ви; тем не менее, дочитав книгу до конца, он никак не изменил своего отношения ко мне, был все так же точен и справедлив. Он вообще был добр к людям. О его порядочности я мог судить по тому, что с гавайцами он всегда обходился, как с друзьями. Я ценил людей, которые, видя во мне безвестного чужака, не злоупотребляли своим преимуществом. Мне нравилась анонимность — это помогало точнее распознавать окружающих.
Какое-то время спустя Пи-Ви сказал мне:
— Коли ты можешь так писать, зачем работаешь в гостинице?
— Эту книгу я написал задолго до того, как приехал сюда.
— И что?
— Здесь я ничего не пишу. Не уверен даже, смогу ли.
Это его не смутило.
— Сразу видно, ты справишься, — сказал он.
«Свазу», говорил он, «спавишься». Глухота вызвала дефект речи, который придавал его словам акцент всеведения.
— О чем мне писать?
— Столько всего. Никто не написал правду («пвавду») о Гавайях. Никто не видит ее. Бадди уже не видит, слишком волнуется из-за своих болезней. Гавайи — это не только пляж, это все вместе, даже проститутки («пвоститутки»).
— Ты так добр к местным жителям, — сказал я.
— Я сам местный. Я был женат на девушке с Таити с татуировками. Мы были очень счастливы. Я работал поваром в ресторане в Коне. Она познакомила меня с гавайками, а позднее я женился на одной. Мы все были друзьями. Они — хорошие люди. Если наблюдать со стороны, никогда не узнаешь их, но, если получше с ними познакомиться, ты все поймешь.
— Все говорят о гавайцах по-разному.
— Потому что они могут быть тем, чем ты захочешь, чем угодно: если ты считаешь их подонками, они будут тебя ненавидеть, если полюбишь их, они будут твоими друзьями.
— Так что же, они — отражение нашего к ним отношения?
— Можно сказать. — Он призадумался на минуту, а потом продолжал: — Я не стану идеализировать гавайцев, но мне неприятно слышать, как Бадди их поносит, потому что я знаю: на самом деле он так не думает, а от этого брань почему-то звучит еще грубее.
— Может, мне стоит написать о Бадди?
— Все собираются писать о нем, но никто не пишет. Журналисты брали у него интервью для «Адвертайзера», но всякий раз получалось что-то не то.
— «Бадди в раю».
— Это было когда-то раем. Это было прекрасно, я помню. До Пёрл-Харбора. До войны. Я был тогда ребенком. Конечно, теперь это больше не рай. Вот почему мне так нравится имя, которое ты дал бару — «Потерянный рай», ведь только былой рай может однажды стать для тебя адом. — Он помолчал и повторил вновь: — Вот почему Гавайи так печальны.
Я остался один и сперва обрадовался этому, поскольку втайне уже начал в эти поздние часы делать наброски будущих рассказов — осторожно, чувствуя себя глупо и неуверенно, словно человек, пытающийся восстановить отношения с былой возлюбленной и страшащийся отказа. В гостинице было тихо, бар, наконец, закрылся, музыку выключили, бассейн был пуст, зеленовато-синяя поверхность воды бросала отсвет на стены. Как только последний пьяница вышел из бара, я спровадил Трэна домой, но вскоре пожалел, что остался один и у кошмара, который я пережил, не было свидетелей, кроме меня.
Читать дальше