Когда еще я не пил слез
Из чаши бытия,
Тогда зачем в венке из роз
К теням не отбыл я?
Ее чудный таинственный голос, полузакрытые, то ли в муке, то ли в сладости, глаза, целомудрие драгоценных слов, божественная красота и печаль задумчивой музыки хлынули на него. Они были для него, ему одному предназначены, уносили туда, где не было места разорванной истерзанной жизни, а была белизна садовой беседки, янтарная желтизна старинной усадьбы, тенистые аллеи с наивными мраморными изваяниями, и где возможна была эта исповедь, это слезное прощание это, расставание навсегда. Чувствуя, как жарко увлажнились глаза, и в них поплыла синева ее платья, белизна ее плеч, медовое пятно гитары, он понимал свою обреченность, безнадежность своей к ней любви.
Зачем же начертали так
На памяти моей
Единый молодости знак
Вы песни прежних дней?
Она укоряла его, целовала, закрывала ему перстами глаза, и сквозь ее теплые душистые пальцы светилось зеленое, белое, — поле летучей травы с белой бесшумной бабочкой, и далекая синь тенистых дубов, и тяжелая зелень кладбища с мраморной плитой и полустертой надписью «Жизнь». Все это было предугадано, предначертано в чьей-то другой исчезнувшей жизни, которая досталась им по наследству. Приняв этот дар, отлюбив и отплакав, они перенесут этот дар в чью- то другую судьбу. Подарят еще не родившимся и безвестным, кому суждено увидеть то волнистое поле, и подхваченную ветром белянку, и маленький, синий, затерявшийся в травах цветок.
Я горы, долы и леса
И милый взгляд забыл.
Зачем же ваши голоса
Мне слух мой сохранил?
Она прощалась с ним, умоляла забыть, винилась перед ним. А ее уводили, она удалялась, и он был не в силах приблизиться, не в силах ее удержать, не в силах от нее отказаться. Его удел — до скончания дней обожать ее, любоваться, безнадежно и безответно любить. Следовать за ней в отдалении, своей молитвой и нежностью уберегать от напастей.
Не возвратите счастья мне,
Хоть дышит в вас оно.
С ним в промелькнувшей старине
Простился я давно.
Но нет, он не смирился, был не готов с ней расстаться, не желал ее отпускать. Ведь была недавняя волшебная ночь, соловьи в саду, летящие из звезд безмолвные силы, которые выбрали его из миллиардов людей, остановились на нем, обещали небывалое счастье. Обещали взять их обоих в звездный блеск, в бесконечную высоту, и он не отпустит ее, станет биться за нее, призывая на помощь все благие небесные силы, всю разлитую в мирозданье любовь.
Не нарушайте же, молю,
Вы сна души моей.
И слово страшное «люблю»
Не повторяйте ей.
Она умолкла, закрыв глаза. С закрытыми глазами вышла из круга света и растворилась во тьме. Серебристое озеро пусто сияло. Люди за столиками хлопали, поднимали рюмки, посылали ей вслед воздушные поцелуи. Ратников сорвался с места и кинулся следом в темный сумрак кулис. Натыкался на стены, торопясь по узкому коридору мимо затворенных дверей, туда, куда вели оставшиеся после нее дуновения, шелест ее платья, едва уловимый запах духов.
Вошел без стука в гримерную и увидел ее среди зеркал, устало прислонившуюся к стене. Гитара лежала на диване. И в том, как бессильно лежал этот маленький, усыпанный перламутром инструмент, была безысходность и отчаяние.
— Оля, милая, что случилось? Зачем эта перемена? Я искал тебя! В музее ты не работаешь, на звонки не отвечаешь! Эта афиша, на всех углах! Ты и не ты! Приехал сюда и увидел. Этот вертеп, у Мальтуса, — тут пахнет распадом, воровством. Может, я обидел тебя? Что-то не то сказал? Ведь нам с тобой было прекрасно. Ты чистая, дивная, светлая. Помнишь, как мы плыли с тобой в Молоду, как летели птицы с колокольни, как ты шла босиком по траве? Давай уплывем с тобой, вниз по Волге. Там чудесные города, краше которых нет. Ты и я, на яхте, больше никого. Я ведь люблю тебя!
Он говорил, задыхаясь, старался увидеть ее глаза, заглянуть в их тревожную взволнованную глубину. Чтобы развеялись его подозрения, кончилась его мука, и она снова смотрит на него с нежностью и печалью, и он так любит уголки ее горьких губ, и легкую тень на лбу, между пушистых бровей, где притаилось страданье.
— Я люблю тебя, слышишь!
Она подняла на него глаза и устало, с глухим и невнятным стоном, произнесла:
— Между нами все кончено. Я сама во всем виновата. Поддалась искушению и какому-то безумному наваждению. Это болезнь, самовнушение, которое нужно лечить. Странная мечта о воскресении затонувшей страны, больное предчувствие смерти, предвкушение жертвы и муки, — все это душевная хворь. Я не подвижница, не святая. Не боярыня Морозова, закованная в кандалы. Не Зоя Космодемьянская с петлей на шее. Я обычная женщина, грешная и порочная, на которую спустилось вдруг помрачение. Теперь оно кончилось, я здорова. Я не мученица, не подвижника. Я певица кабаре.
Читать дальше
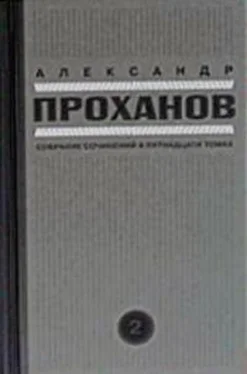









![Александр Проханов - Скорость тьмы [Истребитель]](/books/411143/aleksandr-prohanov-skorost-tmy-istrebitel-thumb.webp)
