Бешено ударил кулаком в непробиваемое стекло машины, крикнул шоферу:
— В затон! Быстро! В затон, тебе говорю!
Они переехали Волгу, миновали шлюзы, подкатили к заливу, где у причалов стояли яхты, катера, моторные лодки. Навстречу вышел капитан Лексеич, с боцманской седоватой бородкой, в черно — белой фуражке с якорем.
— Горючим заправился? — Ратников почти бежал по причалу туда, где сияла металлом, стеклом и пластиком великолепная яхта.
— Так точно, Юрий Данилович, полный бак.
— Водка есть на борту?
— Полный бар.
— Заводи! — кинулся по трапу на борт, не понимая, зачем он здесь, куда его влечет, от какой напасти убегает, к чему, безымянному и спасительному, стремится.
Яхта рокотала могучим двигателем, плавно и мощно шла в разлив. Разваливала на две стороны пласты зеленой воды, выпахивала бурную, кипящую борозду. Ратников стоял на носу, хватая ноздрями студеные ароматы, подставлял разгоряченную грудь ветру, щурился на сияющее отражение солнца. Ровная мощь двигателя не успокаивала его, а лишь усиливала давление в непомерно разросшемся сердце. Ветер врывался под рубаху, и не мог охладить пылающий, во всю грудь, ожег. Глаза не выдерживали слепящего света, закрывались, и тогда в них загорались красные кровавые бельма. Он страдал, задыхался, в его горле бурлил и не мог вырваться больной клекот. В голове, от виска к виску перекатывалась истерзанная, незавершенная мысль: «За что? Откуда моя тоска? Во что я превратился? Где моя гордость и сила?»
Он чувствовал, как из глубины поднимается безымянное, больное, свирепое, доставшееся ему по наследству, замурованное во тьму дремлющего прошлого. Бесформенное существо, которое пробуждалось от спячки, начинало шевелиться, горбить косматую спину, вставать из берлоги, сбрасывая с загривка легкий сор.
Вернулся в салон. Приблизился к шкафчику бара. Извлек бутылку водки и хрустальный стакан. Заметил лицо оглянувшегося из рубки Лексеича. Наполнил стакан и медленно, жадно выпил до дна, чувствуя злую горечь водки, которая пролилась в него, как струя расплавленного свинца. Поставил стакан, отер рукавом губы и снова вышел на палубу. Стоял, опершись о поручень, глядя, как выдавливается из-под борта тугая стеклянная волна. Ждал, когда хмель колыхнет тело. Но не было желанного опьянения, лишь зорче и злее смотрели глаза, тяжелее ухало в груди, и вставало из-под сердца, как из-под лесной коряги, дремучее чудище, поднималось на задних лапах.
«Не будет по-вашему! Не сдамся! Не побегу умолять! Я — волгарь! С волгарями шутить не след!». Эта мысль принадлежала уже не ему, а поднявшемуся на задние лапы косматому чудищу, готовому на хищный прыжок, на свирепый рев, на сокрушительное буйство.
Они шли в открытом море с едва различимой волнистой тенью берега. Среди струящегося разлива просторно, слепо дрожало отражение небесного света, и в этом лучистом блеске, оплавленная, поднималась колокольня. Он смотрел на колокольню, чувствуя, как невыносимо больно было к ней приближение. Словно неслись к нему беззвучные голоса, серебристые птицы окружали его прозрачным трепетом, но он гнал их, не поддавался их чарам, их жестокому обману, их мнимой целомудренной красоте. Отрекался от них, не желал смотреть в сияние вод, которое было обманчивым, скрывало черную страшную бездну, в которую его опрокинули.
Кинулся к рубке, крикнул Лексеичу:
— Ну, куда ты прешь на эту кирпичную развалюху! Сворачивай, огибай ее! Полный вперед!
Лексеич молча кивнул, и яхта оттолкнулась, взревела, глуше зарокотала, и ветер зашумел в ушах, врываясь в ноздри и губы сладкой струей.
Он еще раз возвращался в салон, пил водку, добиваясь обезболивания, глухого шума вместо звучания ее знакомого голоса, душного тумана вместо ее дорого лица. Хмель явился жарко, рождая подобье злого веселья, необузданной ярости, потребность в рывке и ударе, обращенном то ли в мир, то ли на себя самого. Хотелось рвануть на груди рубаху, чтобы вместе с тканью разорвалась грудная клетка, и из нее вывалилось на свободу огромное красное, переполненное болью сердце.
Они преодолели бескрайний морской разлив и вошли в Волгу. С пьяной зоркостью он смотрел не проплывающий берег, песчаные откосы, красные сосняки, на островерхие белые колокольни на прибрежных кручах. Зеркальная вода отражала яркие рыжие оползни с поваленными, сползающими к реке деревьями. Над водой тянулись синеватые дымки рыбачьих костров, странно пахло парными березовыми вениками. В своем пьяном прозрении он замечал расходящиеся круги плеснувшей рыбы, опрокинутую сосну, кроной вниз, сползающую по круче, прибрежную церковь с покосившейся голубой главкой. Ему казалось, что под этой зеленоватой, с множеством отражений Волгой течет другая, донная река, таинственная и бесцветная, несет в себе иное воплощение его судьбы, его параллельную жизнь. А в небе, за кучевыми облаками, за прозрачными серебристыми перьями, в бескрайней высоте, течет еще одна Волга, небесная, божественная. Несет в себе его душу, ту, которая ему самому неведома, живет, не связанная с его земной юдолью. В этой горней душе скрывается какая-то высшая цель, неизреченная задача, ради которой он явился на свет. Перед тем, как ему умереть и исчезнуть, все три Волги сольются, и он поймет, наконец, кто он. Это расщепление личности было следствием опьянения, которое, вместо невыносимой тоски, рождало недоумение, сопровождаемое тончайшей болью.
Читать дальше
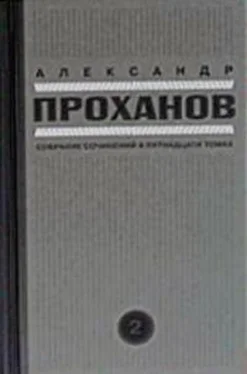









![Александр Проханов - Скорость тьмы [Истребитель]](/books/411143/aleksandr-prohanov-skorost-tmy-istrebitel-thumb.webp)
