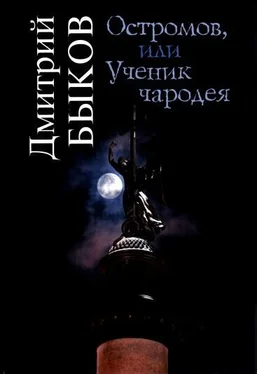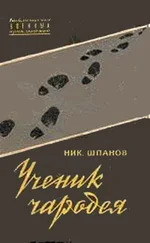И он был нищ. Он забыл вкус еды. Здесь была не еда, а глина.
Даже в голосе его, прежде чеканном, — такими голосами полемизировали на конклавах кардиналы, решая вопрос о сущности чего-нибудь троичного-четвертичного, — появилась горловая сыроватость, напоминавшая, страшно сказать, Одинокого. Однако голос изменился меньше всего — не зря никогда не существовавший магистр Михель Гаагский, на которого любил ссылаться Остромов, называл его истинным портретом души.
Некоторое время Даня наблюдал издали, не решаясь подойти. Наконец он сделал шаг, как бросаются в воду.
— Учитель, — проговорил он хрипло, — вы не узнаете меня?
Остромов поднял на него глаза и, что самое удивительное, не удивился. В глазах его стремительно сменились испуг, разочарование и раздражение.
— А, ты, — сказал он, словно они расстались вчера. — Тоже сюда, что ли?
— Я приехал к вам, — торжественно и тихо сказал Даня. — Помните, вы говорили о трех встречах? Вот она, третья.
— Ничего не помню, ничего не говорил, — забубнил Остромов. — Тебя не взяли?
— Я уехал к отцу, отца сослали, — сбивчиво заговорил Даня, хотя репетировал этот разговор сотни раз. — Я могу остаться с вами, если хотите… я разделю, как вы скажете…
— Так тебя не взяли? — переспросил Остромов.
— Нет, но…
— Ну, ты приехал, и что? — перебил Остромов. — Что тебе надо?
Он постреливал глазами по сторонам, но к нему никто не подходил. Жители Пензы, в просторечии пензюки, знали свою судьбу и без гороскопов.
— Я работаю, учитель, — почти прошептал Даня. — Ваши рукописи у меня. Я далеко продвинулся, Борис Васильевич, но мне нужна ваша помощь. Мне не дается переход во второй эон, и я надеюсь…
— Чего? — переспросил Остромов с непередаваемой интонацией. Это звучало уже почти как «чаво», даже «чавой-та». Протей, он без остатка растворялся в чуждой стихии, величественно мимикрировал, каждый раз сотворяя себя заново.
— Второй эон, — повторил Даня еще конспиративней. — Мне нужно число. У меня, — он почти шептал, — были уже опыты полета, удачные, повторяемые. Я много работаю один…
— Работаешь? — переспросил Остромов. — Над чем же ты, любопытно узнать, работаешь?
— Я освоил первую ступень, — все еще гордо произнес Даня, хотя уже подозревал, что ведет себя неправильно и с самого начала взял ложный тон. — Я левитирую уже достаточно свободно. Исчезновение дается трудней, но несколько раз было… Потом — экстериоризация, уже практически без усилий, хотя, вы понимаете, без руководства трудно…
— Кретин, — сказал Остромов, улыбаясь и мотая головой. — Вот кретин, прости, Господи, мою душу грешную.
Он не мог так говорить, это был не его голос, и тем не менее это был он — Даня узнал несомненность, ту самую, о которой читал в трактате про узнавание дурных и хороших мест. Несомненней всего то, чего не может быть, ибо здесь видим след не нашей, но Божественной логики. Слишком хорошо или слишком страшно — всегда правда, и для правдивого изображения тайной действительности нужно вычислить лишь угол, под которым истина врезается в реальность; некоторые полагают, что этот угол меньше шестидесяти, но больше сорока пяти, как возраст истинной мудрости, еще не тронутой…
— Кретин, — повторял Остромов и мелко смеялся. — Вот же, Господи… Ты что, теленок, верил всему?
Даня потрясенно молчал.
— Вот же семь на восемь, восемь на семь, — трясся Остромов, и в нем все отчетливей проступал тот простой, славный русский мастеровой, который в славный русский весенний день, сука, убьет — не задумается. — Урод сопливый. Он изучал, он продвинулся. Ой, смерть моя. До чего ж тупая рожа. Телок. Он левитирует, он летает. Лети, дружок, с кровати на горшок. Дубина. Где тебя такого вывели? Почему ты еще жив, уродина? На себя посмотри. Что еще с вами такими делать? Вас надо доить и ноги об вас вытирать. Что тут удивляться, что с вами делают что угодно? Я не удивляюсь, нет, я не удивляюсь…
Это несомненно говорил учитель, но учитель, безнадежно разочаровавшийся в учениках, заставивший себя забыть обо всем, чему он учил их прежде. Так говорил бы Христос с апостолами, увидев, во что превратилась церковь. Остромов хохотал и все больше злился — Даня не мог понять, на кого, но чувствовал, что сам он — лишь спусковой крючок для долго копившейся ненависти.
— Учитель! — хихикал Остромов, хлопая себя по бокам. — Учитель, нассы мне в глаза, и это будет божия роса. Говнюк. Летатель. Да ведь я врал вам всем, дураки, я морочил всех вас, кретины! Остальные люди как люди, все чего-то поняли, один этот, телятина, еще… — и тут учитель употребил такой глагол, которого Даня не знал, но смысл которого постиг интуитивно. Никто лучше Остромова не стимулировал чтения мыслей. Он все хохотал, и на них уже оглядывались.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу