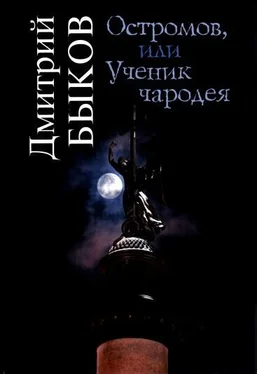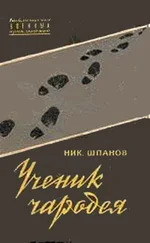Где были все эти волшебные, ничего не стоящие, намоленные, наласканные любящей рукой вещи, которые надо было оставить, чтобы стать чем-то иным? В пыльном подсобнике какого музея, в чьей полутораметровой каморке, на какой свалке ютились и прозябали теперь эти бутылочные корабли, детские башмаки на счастье с их мягкой потрескавшейся кожей, сто лет не ходящие, иногда вдруг среди ночи звонящие часы, охрипшие музыкальные шкатулки с замершими танцовщицами, стеклянные шарики неизвестного назначения? Кому были нужны теперь эти сброшенные личины, эти талисманы, давным-давно подаренные на счастье тому, кто никогда уже не будет счастлив? И жалость к вещам в последний раз обожгла Даню — потому что он уже ежевечерне штудировал найденное в сундуке; и пару раз ему казалось, что он продвинулся. Иногда он жалел, что не спросил Клингенмайера о будущих встречах и возможном адресе, — но тут же понимал, что это было самым правильным выбором за все их короткие встречи.
Трактаты были по-прежнему рукописные, с множеством ошибок, которые он видел теперь так ясно, словно давно помнил оригиналы. Тут было «Размышление о невидимости», странный, но бесконечно увлекательный «Опыт о гранях воздуха», дотошное руководство по вызову особенно полезных советчиков, старинный лечебник, помогавший отгонять хандру и возвратные токи ненужных беспокойств, а также ослепительно остроумная «Отповедь Эмпирику», которую он перечитывал, словно беседуя через тысячелетие с насмешливым другом. Для читателя начала века все это было, верно, глупость и мракобесие, — но двадцать лет спустя само это мракобесие было живительно и утешительно, как любая человеческая глупость среди плотной массы нечеловеческого, как пошлая любовная записка с гимназическими ошибками, вложенная в том статистических данных о забое скота в Самарской губернии.
Он начал уже находить повседневные подтверждения тому, о чем говорилось в «Гранях воздуха», — и ему даже казалось, что он буквально видит в воздухе складки, о которых упоминалось в первой части, — когда из одной такой складки неподалеку от Измайловского собора на него буквально выпал Одинокий; что поделать, второй толчок всегда противоположен первому, иначе их общий вектор не вытолкнет испытуемого вверх. Одинокий стоял у собора, перед ним лежала на земле дряхлая шапка, а голова его была замотана, как чалмой, вязаным женским шарфом. Около него стоял в черных очках слепец, показавшийся Дане смутно знакомым, но если они и виделись когда-то — узнать его в этих очках было немыслимо, и вдобавок он опустил лицо, и был уже вечер. Но Одинокого он узнал по жгучему омерзению, с каким душа отдергивается от сущностей, давно перешедших на ту сторону. Одинокий еще раздулся, и запах сырого мяса, исходивший от него, содержал уже явственный намек на разложение: так пахнет пролежавшая несколько часов на прилавке свиная голова, вполне пригодная на студень, но Господи, неужели найдутся люди, которые это съедят?
— Галицкий! — радостно захрипел Одинокий. — Провокатор! Вы куда же?
Это было так неожиданно, что Даня замер.
— Провокатор! — довольный произведенным эффектом, протянул Одинокий. — Дайте нищему поэту на хлеб, и никто не узнает, как вы сдали органам кружок Остромова. Раскошеливайся, сволочь, я никому не скажу. Кугельский, смотрите! Впрочем, какое же смотрите? — Одинокий настроился на долгий монолог, сложил руки на животе и смотрел на Даню сквозь мелкий снег с умилением, как гурман на утку. — На что же вы теперь можете смотреть? А ведь это ваш герой. Это тот самый Галицкий, который всех сдал и убежал. Всех взяли, а его нет, вот и понятно. А, Галицкий? Вспоминаете, как вы на меня смотрели, гадина? У Кугельского-то? С Кугельским вон что приключилось, а вы целехоньки. Удивляюсь, право. И ходите, и смотрите, и люди вам в глаза не плюют.
Он прекрасно знал, что Галицкий никого не сдавал, и знал также, что никто не поверил бы в предательство этого теленка. Он видел его единственный раз, но определил безошибочно. Однако пищей Одинокого, хлебом его и водой была низость, и он не мог не плодить низости, оптимизируя среду, — не осквернять святыню, не раздувать сплетню, не нищенствовать, не говорить вслух гнуснейшей гнусности; это был его путь в сверхлюди, другого он не знал, и хотя превратился лишь в гнойную язву на ненавистном, неродном городе (сам он был из-под Мценска), — он верил, что путь его верен. Есть разные способы быть нечеловеком — скажем, сделаться вибрионом, — но вибриону кажется, что он-то и есть сверхчеловек: неуязвим, и опасен, и все эти ничтожества так корчатся!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу