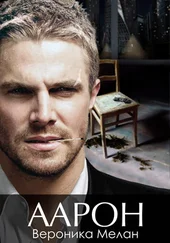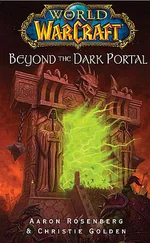— Вам необходимо отдохнуть, — сказала я.
Генни немедленно со мной согласилась, но — как ей избавиться от контракта на двадцать четыре концерта?…
Только сейчас я осознала, как истосковалась по ней. Кстати, тот узелок с драгоценностями, который она дала мне, я так и не развязала. Повесив его на шею, я решила, что он будет моим талисманом. Теперь же мне захотелось одеть на себя одно из этих украшений.
Генни была настроена решительно и твердо, даже обронила несколько издевательских замечаний по поводу монашества своего мужа Изьо, и наконец, сказала:
— Я ненавижу монастыри. Не могу простить монахам то, что они творят. Человек должен быть свободен.
На следующий день я встретила антрепренера Генни, молодого, склонного к полноте еврея, стяжателя и прожженного дельца. Он разработал план гастрольной поездки до мельчайших деталей. Но за этой точностью и обстоятельностью мне виделось что-то похожее на изгнание. Нельзя вынуждать человека так надолго покидать его собственный дом. Я хотела произнести эти слова погромче, но голос мне изменил.
Потом мы сидели с Генни — после нескольких рюмок. Голос ее журчал и переливался, она говорила с воодушевлением, что надо уметь преодолевать слабость, много работать, ибо только работа может все поправить. Это был не ее голос, она как бы взяла его взаймы, чтобы вести эту беседу. О чем она говорит? Мне все хотелось остановить ее: «Вы должны позаботиться о своем здоровье, отдохнуть в деревне», — но я не могла произнести ни слова. А ее голос лился, заставляя меня хранить молчание. Наконец она произнесла:
— Пустяки. Мы будем часто видеться и много разговаривать, дни напролет. Нам есть о чем поговорить. Есть о чем.
На следующее утро отправилась Генни в турне по провинциальным городкам, а я с горя засела в кабаке, пропустила несколько стаканчиков. Затем, словно не отдавая себе в том отчета, стала подниматься вверх по улице, ведущей к вокзалу. Ночные огни, сочащиеся влагой, освещали тротуары, а я, как говорится, брела без всякой цели. Если бы вдруг появился мужчина, который бы силой уволок меня в свою комнату, — я бы пошла, не сопротивляясь. Но никто не подошел ко мне. Все, торопясь, пробегали мимо. Я даже рассердилась, что ни один из прохожих не обратил на меня внимания, но по-прежнему шла без всякой цели. Почему-то я свернула в боковую улочку. Я увидела перед собой слабый свет и уловила запах еврейского кушанья. Было у меня непреодолимое желание постучаться и попросить немного супа, но я не осмелилась. Я стояла и ждала, что дверь откроется, выйдет человек и скажет:
— Катерина, заходи! Что же ты стоишь на улице?
Долго я так стояла. Но тщетными оказались мои ожидания. Непроницаемые стены темноты постепенно окружали все дома вокруг.
— Почему же мне не дадут немного супу? — произнесла я наконец вслух.
Но никто мне не ответил. Дома превращались в неприступные крепости, и тьма, сгущаясь, обволакивала их. Я шла дальше, и ароматы еврейской кухни преследовали меня. Порыв гнева швырнул меня к домам, мне хотелось колотить в двери, но я все-таки не сделала этого.
Я задержалась у небольшой лавчонки. По двери и по замку определила я, что лавка эта принадлежит евреям. Я собиралась пройти дальше, но что-то во мне потребовало: «Остановись!» И я остановилась…
Теперь уже дорога в лавку была коротка и мгновенна: одним взмахом руки я высадила оконное стекло, мигом очутилась внутри, собирая в мешок пачки папирос и плитки шоколада.
Я легко выбралась и затерялась в переулках. Я знала, что совершила грех, низкий и презренный, но раскаяния не ощущала. Какое-то грубое наслаждение заливало все мое тело. Ночь пролетела — я ее даже не заметила. Одолевала меня жажда, но все кабаки были закрыты. Под утро добралась я до вокзала, рухнула на пол и заснула в беспамятстве.
Я хожу из кабака в кабак. На привокзальных улицах немало подобных заведений. В некоторых из них — порядок, о других этого не скажешь. Я предпочитаю места тихие. Две-три стопки возвращают мне Розу и Биньямина. Никогда не прощу себе, что позволила тем русинам отобрать у меня мальчиков. Иногда мне кажется, что они втайне обо мне думают. Если бы знала, где они находятся, мои мальчики, пешком пошла бы к ним. Порою мне кажется, что время остановилось, я — с ними в той же хате, а вокруг — та же зима, и печь излучает густое тепло, и я с детьми лежу на огромной деревянной кровати.
Каждый из кабаков вызывает передо мной иное видение. В кабаке «Ройяль», сидя у окна, я вижу Генни. Теперь мне кажется, что я лучше понимаю ее требовательность, она не выносила никаких «приблизительно» и «наполовину». Если бы не ее требовательность, не взлететь бы ей. Таков ее характер. И в нем — ее наказание. Теперь она трясется по захолустью, услаждая своей игрой тугоухих местных толстосумов. Суровая требовательность Изьо была еще жестче. Я помню, как он сказал однажды:
Читать дальше