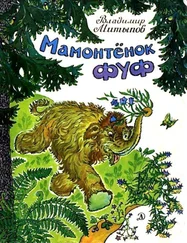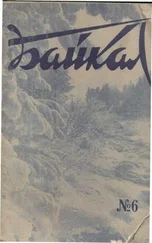В очередной раз отогревая дыханием руки, Вегенер подумал, что было б хорошо зажечь примус — воздух в тесном пространстве палатки нагревается очень быстро, но увы, сейчас это непозволительная роскошь. Литра керосина хватает на восемь часов работы примуса, вот только литров-то этих осталось ничтожно мало, поэтому беречь их надо, беречь. Сразу же явилась и другая мысль, не раз уже возникавшая в предыдущие дни: вся их поездка вылилась, по сути, в безнадежное состязание со временем, которое здесь, на Щите, действует с особенной быстротой и неотвратимостью. В середине ноября начнется девятинедельный период без солнца, уже сейчас закат наступает почти сразу вслед за восходом. Темнота и холод вынудят сокращать суточные переходы. Длинные стоянки, когда человек не согревается хотя бы в движении, повлекут больший расход топлива — и это при дальнейшем усилении морозов. Продолжительность жизни станет измеряться количеством керосина. Таков Щит…
Представшая картина была безрадостной, и скорее для собственного успокоения Вегенер стынущей рукой добавил в письмо строки о том, что все идет хорошо, обмороженных нет и они надеются на благополучный исход. Мысль о предстоящей девятинедельной ночи с новой силой вызвала у него тревогу за тех, кто остался на базе. Разумеется, те находились сейчас в несравненно лучших условиях, чем они с Лёве, однако полярная ночь будет для них первой. Хотелось бы надеяться, что сам он к тому времени успеет вернуться к Шейдеку, но все же следовало как-то предостеречь их от излишней беззаботности в круглосуточной арктической тьме.
«…Не заблудитесь ни вы сами, ни товарищи ваши при выполнении научных работ… Очень кланяюсь всем!
Альфред Вегенер».
Земля была сыра, холодна, тяжела. Он не знал, не помнил, как и почему оказался погребенным. Возможно, близкий разрыв артиллерийского снаряда завалил его в окопе или же, приняв за мертвого, наспех закопала похоронная команда. Но страшным было не это — он слышал, как землю настойчиво скребут когти, раздаются рычанье, лязг зубов, нетерпеливое чавканье. Он понял: отгремели взрывы и отзвучали выстрелы, преследуя друг друга, куда-то очень далеко ушли полки, ночь опустилась на обильное мертвыми телами поле сражения, и пришел час псов войны, пожирателей трупов. Он лежал погребенный, но отчетливо видел и эту темную среднеевропейскую равнину, и рыщущие по ней стаи теней, слышал их голодный вой, видел, как собираются они кучками то там, то здесь и суетливо, жадно копают землю, с усилием вытягивают что-то темное, рвут на куски, грызут, жрут. В ужасе от увиденного рванулся он всем телом, но еще тяжелее, еще безжалостней сдавила его земля, так что невозможно было шевельнуть ни рукой, ни ногой. И тогда он начал задыхаться. Псы меж тем подбирались все ближе, царапали когтями где-то уже возле самого лица, дышали тяжело, быстро, алчно…
Он проснулся, все еще слыша свой стон. Его бил озноб, тело было мокрым от пота. Во сне он наглухо зарылся в спальный мешок и теперь не мог отыскать его отверстие. А рычанье, возня, грызущие, скребущие звуки все продолжали раздаваться. С чувством облегчения он понял, что никакие это не псы войны, а бедные, голодные упряжные собаки, которые опять ухитрились пробраться в палатку. Пока он с трудом выкарабкивался из мешка, в тесной темноте нарастала возня. Рычали, взлаивали, грызлись, чавкали. Энергично задвигался проснувшийся Лёве, разразился невероятной смесью немецко-гренландских проклятий. Вегенер, осторожно распихивая псов, на ощупь дотянулся до входа, расстегнул его и лишь после этого принялся ногами выпихивать в снег визжащих собак. Тем временем Лёве засветил огонек и первым делом кинулся осматривать упряжь. Сокрушенно охнул, показал Вегенеру обрывки ремней. Промерзшие, они торчали, как надломанные палки. Псы успели основательно их изжевать и погрызть.
— Что ж делать, Франц, — Вегенер пожал плечами; терпение его поистине было бесконечным. — Как-нибудь свяжем и поедем дальше.
— Упряжь у нас и так из сплошных узлов! — буркнул Лёве. — И эта — последняя, запасных больше нет.
— На месте наших несчастных собак я сам стал бы пожирателем питуты, — вздохнув, командор достал из спального мешка свои унты и принялся обуваться. — Дорога тяжела, они выбиваются из сил, а корма получают все меньше и меньше…
Он поежился. Сырая, постоянно невысыхающая одежда начинала твердеть, морозно похрустывая и неприятно холодя тело. На бороде, усах, на меховой опушке воротника незаметно нарос иней.
Читать дальше
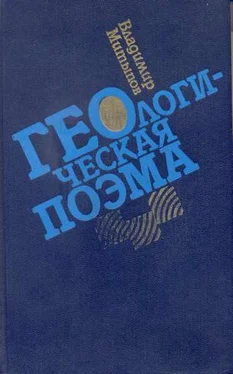
![Владимир Митыпов - Мамонтенок Фуф [журнальный вариант]](/books/30130/vladimir-mitypov-mamontenok-fuf-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)