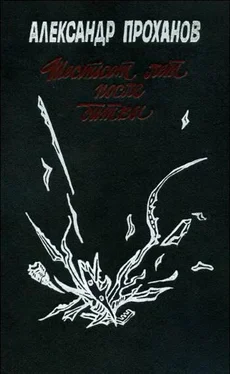Она ненавидела, блестела глазами. Голос ее срывался на клекот. На горле двигалась и пульсировала синяя жила. И он, видя это ненавидящее лицо, испытал такую боль, такую слабость и муку, признание всех своих вин перед ней, перед отцом, перед сыном — такое непонимание того, из чего сложилась его жизнь, прожитая почти в одночасье, уложившаяся в миг единый, и скоро ему умирать и со всем прощаться, и что он им скажет, прощаясь?
Он почувствовал, что теряет сознание. В обмороке, куда его опрокидывало, перевертывало, вовлекало в стремительную траекторию, вдруг возник самолет, красный, в вечернем солнце, в низком облачном небе, с длинной черной косой чадного дыма.
Должно быть, она увидала, почувствовала его обморок. Он очнулся от ее вскрика:
— Валя, что с тобой, Валя? Прости! — Она кинулась к нему. Обнимала, целовала, гладила его плечи, повторяла: — Прости, прости! Это — затмение. Уедем с нами! Брось эту ужасную стройку! Поедем в Москву. Поживем все вместе — ты, я, Алеша! В кои веки судьба улыбается нам. Мы скоро с тобой старики… Еще живы, Алеша наш с нами. Ну поедем, умоляю тебя!
Он обнимал ее. Чувствовал, как на его руки бегут ее быстрые слезы. Стоял, сжав плотно веки. Тот московский переулок в снегу, заснеженная старая церковь, застывший в облупленной капители голубь. И мука его не кончалась.
— Мама, папа, вы что? — услышал он. — О чем это вы так громко? — Из соседней комнаты вышел сын, отдохнувший, улыбающийся, держа на плечах тулуп. — О чем спорите? Может, я помогу?
— Ни о чем, сынок. Какие уж наши споры! Иди к нам. Постоим, помолчим.
Они стояли втроем. Сын обнимал их. Молчали. И было им всем каждому по-своему больно и хорошо.
Дронов и сын Алеша гуляли по белой лесной дороге, уводившей от коттеджей в зеленый ельник, в синие долгие тени, в полосы желтого солнца. Медленно удалялись от дома. Дронов слушал сына, его энергичное молодое витийство. Искоса мельком взглядывал на близкое сыновье лицо, на статное, сильное тело. Испытывал нежность и робость. Неужели это он, Алеша, его милый мальчик, с кем когда-то, в далекий, им обоим подаренный день ночевали в деревенской избе, под лоскутным крестьянским одеялом, и он, отец, фантазировал, складывал какую-то сказку, про какой-то прилетевший из неба корабль, про каких-то жестоких небесных воителей, решивших покорить всю землю, и сын забывал дышать от восхищения и страха, прижимался к нему своим маленьким жарким телом. Неужели это он, Алеша, сильный, энергичный мужчина, познавший войну, видевший смерть и страдания, и есть тот худенький, хрупкий мальчик, доверчивый и наивный, тихо смеявшийся под лоскутным деревенским одеялом?
— Ты был прав, отец, прав абсолютно! Действительно, как ты говорил: вертолет — инструмент познания мира. Я до конца не понимал тебя прежде. А теперь понимаю. И благодарен, поверь! Благодарен за то, что направил меня в вертолетчики. Мать хотела меня сделать историком, посадить за чтение летописей. Но историком-то по-настоящему сделал меня ты. Втолкнул меня в современную историю! Цивилизация — это загадка, которую нельзя понять в кабинетах, нельзя понять в библиотеках. Ты посадил меня в вертолет, и я, что бы там ни было, тебе благодарен!..
Дронов кивал, слабо улыбался. Слушал философствования сына. Вспоминал тот день, когда ночевали в избе.
Утром проснулись, пошли обследовать старый большой сарай, наполненный сухим серебристым скарбом. В дырявую дранку косо, под разными углами летели лучи, бесшумно ударялись о ветхие предметы, расплющивались дрожащими мягкими пятнами света. Растресканная деревянная ступа, долбленая, из тяжелого корня, с остатками пшеничной пыли, слабым запахом истертых зерен. Сын боязливо трогал ее, ему мерещилась ведьма; и обшарпанная, из березовых прутьев метла, и избитый дубовый пестик — орудия колдовского полета — стояли тут же. Поломанный ткацкий стан, смугло-коричневый, с обрывками прелых нитей, пропустивший сквозь себя столько полотен, разноцветных половиков, хранивший бессчетные прикосновения исчезнувших женских рук. Грабли, вилы и косы на заржавелых гвоздях — сын робко их трогал, они чуть слышно звенели, будто в них отзывались старинные косцы, давнишние сенокосы, душистые, зеленые копны. Лошадиная дуга с бубенцом, расписанная цветами и птицами, — сын протягивал руки к дуге, будто гладил ушастую голову, и мерцали, туманились лошадиные большие глаза, дышали мягкие губы, слабо, сладко звенел бубенец. Здесь были берестяные торбы, изношенные драные лапти, еловые суковатые посохи — все, что осталось от тех, кто исходил окрестные земли к святым местам, на торговые ярмарки, на церковные богомолья. Здесь, в старом сарае, он впервые на мгновение понял жену, ее увлечение древностью, ее мистическую любовь к старине. Под дырявой крышей собралось и укрылось минувшее время: крестьянские свадьбы, престольные праздники, солдатские проводы. И когда осторожно качнули детскую зыбку, линялую роспись на поломанных шатких дощечках, из-под зыбки выбежал еж, прошуршал, оглядел блестящими черными глазками, как маленький домовой, рассерженный их появлением.
Читать дальше