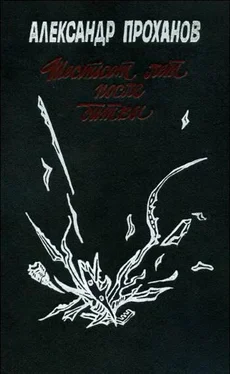И он, уловив знакомую, раздражительную интонацию, откликнулся немедленным раздражением.
— Ничего не поделаешь, у меня другой бог в душе, не тот, что у тебя! Мой бог — энергетика! Пора бы к этому привыкнуть! — сказал он и сам неприятно поразился трескучему звучанию слов, их выспренности и неправде.
Энергетика не была ему богом, а была огромной, изнурительной, с утра и до ночи заботой. Стройка не была ему богом, а тяжелым варевом непрерывно возникавших проблем, человеческих конфликтов, производственных срывов, организационных и инженерных решений. Станция спозаранку захватывала его в свои железные лапы, перекладывала в течение дня с одной громадной ладони на другую, комкала, мяла, и он, боясь быть раздавленным, отбивался от нее, реагировал на нее множеством неточных, мгновенно возникавших действий, имевших единственную цель — удержать в равновесии взбухавшую огнедышащую махину, не дать ей упасть, развалиться на отдельные, не связанные в единство ломти. Даже ночью, во сне, он продолжал бороться со стройкой. Темная, в красных искрах, в шершавой броне и щетине, она двигалась на него, разрезала котлованы, пялила ртутные очи, и он боролся с ней, как с ночным кошмаром. Нет, энергетика не была ему богом. Теперь, сейчас не была. Но ведь прежде, раньше была! Прежде он был с богом в душе!
Его первая стройка в азиатских горах на зеленой кипящей реке. Он прораб. Экскаваторы на мелководье дерут и черпают гальку. Взрывники короткими точными взрывами ровняют скалу, готовят ее к бетону. Стройка «завязывается», набирает массу, копит энергию. Сгружают механизмы с платформ. Ставят балки и бараки. Заселяют щитовые дома. Созывают, скликают молодой стоязыкий люд. Но что-то не клеится, неуловимое, помимо всех механизмов, всех планерок и митингов, не подвластное управленцам, за пределами инженерных решений. Дух не вселился в стройку, она еще не ожила, движима не своей энергией, дышит не своими легкими, не может подняться. И уныние медленно, вместе с затяжными дождями вползает в ущелье. Тоска на лицах людей. Тоска в расхристанных жидких дорогах. В ржавеющем скрипучем железе. В сыром, неуютном жилье. И вот уже потянулись прочь, побежали со стройки одиночками, парами, целыми бригадами. Снимаются и уходят на другие места, на денежные живые работы. Стройка, еще не успев сложиться, уже рассыпается, тает, несет в себе признаки долгой, на многие годы болезни.
Они, молодые прорабы, бригадиры, комсомольский актив, собрались на свое совещание. Решили сломить уныние, одолеть болезнь, повести людей в котлованы, на строительство перемычки, в топь, в хлябь, в холод. И начать свой штурм неожиданно, поразить воображение стройки. Совершить коллективную вылазку на соседнюю черную гору, мрачно, в дожде нависавшую над поселком.
Шли в сумерках, в холодную изморось. Подскальзывались на липких камнях. С тяжелыми рюкзаками, в связке, как альпинисты, несли с собой краску, молотки и лопаты. На ощупь, в темноте, оставляя внизу зыбкие в дожде огоньки, скрываясь в ледяном моросящем облаке, достигли середины горы. Рискуя сорваться, поддерживая друг друга, светя фонариками, собирали камни, красили их в белый цвет, выкладывали из них огромные буквы. Стесывали мох, обкалывали шелушащиеся сланцы. Под утро, измызганные, исцарапанные, перепачканные краской и грязью, спустились в поселок. И когда рассвело и заспанные люди вяло шли на работу, дождь прекратился, ветром сдвинуло тучу, и на черной горе, над поселком загорелась, забелела огромная надпись: «Коммунизму — быть!» И народ — шоферы, бульдозеристы, монтажники — смотрели на эту взывающую, из неба упавшую надпись.
Был, был в нем бог. Бог энергетики. Бог дерзкой всесильной молодости. Бог всемогущей техники. Бог крепнущей любимой державы, в которую верил, которой отдавал свой талант, служил беззаветно. Куда он исчез, тот бог? Какая надпись теперь на той черной, угрюмой горе?
— Я тебе всегда говорила, наши разногласия превыше быта. Разве я не жила с тобой в бараках, не мыкалась по углам? Разве не готова была ехать за тобой на край света? И в клубе, и в библиотеке работала, много ли мне надо? Нет, не это, не это нас с тобой разделило!
— Да слышал, слышал много раз твою песню! Сколько же можно?
— Нет, ты послушай, послушай!
Ее лицо опять постарело, осунулось. На нем обнаружились новые морщины и тени. Свет ушел из лица. Едко, резко она стала повторять известные ему, неменявшиеся укоры, усвоенные на стороне, среди каких-то иных, враждебных ему людей. Упреки, направленные против него, против дела, мировоззрения, всей его сущности. И он знал: цель этих упреков была в том, чтобы разрушить его, измотать, оторвать от дела, развенчать это дело, оставить его вне дела, беспомощного, безоружного. Воспользоваться его бессилием, увести за собой, к себе, сделать своим. Вся их жизнь — отъезды, разлуки, краткие пребывания вместе, вся их жизнь до скорой, поджидавшей их рядом старости проходила в этой борьбе. В ее стремлении разрушить. В его стремлении устоять.
Читать дальше