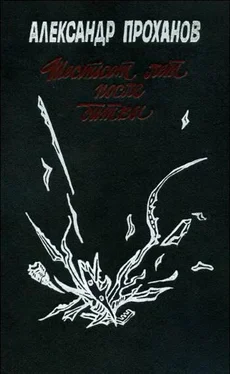Дронов видел слоистый срез котлована. Черный, копотный поверхностный снег. Белый, как жир, волнистый спрессованный лед. Горчично-рыжую промороженную землю. Сочный, липкий, как вар, парной, незамерзший торф. И на этом срезе между мягким торфом и рыжим замороженным грунтом повис самолет. Словно ископаемое существо, замурованное в отложения. Бульдозер, выгрызая котлован, тронул самолет своим бивнем, нарушил обшивку, отломил фюзеляж от торфа. Дронов вглядывался в крылатую, погребенную в землю машину. Крыло с отпавшим мотором. Драные лоскутья хвоста, на котором сквозь тлен и наросты торфа краснела звезда. И вид самолета, след его траектории из пустого слепящего неба сквозь пласты земли, остановившей его, — все это вызвало у Дронова острое, больное волнение. Предчувствие близкой, постоянной, вечно живущей в нем мысли. Он смотрел на пикирующий бомбардировщик, чувствуя усилие этой больной, пугающей и желанной мысли.
В толпе, кругом говорили:
— Тут, если копать в болотах, чего не найдешь! Недаром Броды зовутся. Знаешь броды — прошел, а не знаешь, так и ухнул в болото, поминай как звали!
— Вот они, без вести пропавшие! Так и лежат полками, а то и дивизиями в болотах. Вот она, весть-то, пришла! Через сорок с лишним годков докатилась!
— Под второй блок рыли, много костей нашли. Экскаватор ковшом черпанул, а там кости, людские, конские! Горы костей! Кольчуги ржавые, бляшки на сбруях. Одна золотая, узорная. Не знаю, экскаваторщик снес, нет в музей или себе на зубы пустил?
— Тут, говорят, сеча была старинная. Ну а самолет, конечно, с нашей войны.
— Его бы, самолет-то, надо аккуратней достать. Кабину лопатой разрыть. Может, летчик остался.
Мысль, которой страшился Дронов, которую звал и предчувствовал, была уже в нем. Мысль об отце. Здесь в войну, в этих снегах и болотах, погиб отец. Летчик-штурмовик улетел на удар да так и не вернулся с задания. Все эти годы, строя станцию, он думал: где-то здесь, в низеньком небе, был последний полет отца, последний огненный след. Теперь он почти не сомневался: это машина отца, его штурмовик. Встреча, казавшаяся невозможной, но с детства желанной, эта встреча вдруг состоялась.
— Ты тихонько вокруг пропаши, а после толкни. Он и стронется! — Народ учил бульдозериста.
Бульдозерист уселся в просторной застекленной кабине. Шевельнул ножом, задним отточенным бивнем. Лязгнул гусеницами. И японская махина плавно и мощно стала наезжать, отъезжать, кружиться на месте, вспарывая мерзлоту вокруг самолета, выколупывая его, отделяя от спрессованной толщи. Самолет колыхался, вздрагивал фюзеляжем и крыльями, словно просыпался от долгого сна.
Дронов чувствовал трепетание самолета, его пробуждение. И мысль об отце была пробуждением его собственных детских молений, воспоминаний о материнских слезах, о желтых треугольниках, хранившихся в материнской шкатулке, о маленькой, отклеенной с документа фотографии молодцеватого лейтенанта, о родных отцовских глазах, разгоравшихся над ним в ночи во время болезни среди детского жара и бреда, о детских рисунках, на которых самолет с красной звездой летел над дорогой, стреляя из пушек, превращая в пожары и взрывы колонну танков с крестами. Отец был не памятью, не образом породившего его человека, а живым, на всю жизнь, состоянием, в котором присутствовало вплоть до нынешних дней чувство вины и любви, надежда на чудо, на появление отца, на возможную, ожидавшую их в будущем встречу. И теперь, глядя на бульдозер, на сотрясавшийся фюзеляж самолета, он вспомнил письмо отца. Один из последних треугольников. Какая-то изба в полумраке. Какие-то старик и старуха. Какая-то лампадка в углу. И назавтра вылет, бомбежка. Прорыв сквозь огонь зениток, воздушные бои с «мессершмиттами». Обращение к жене и сыну: «Милые вы мои, дорогие…»
Самолет, в комьях торфа, лежал, окруженный людьми. Двое с лопатами наклонились над кабиной, выбрасывая землю.
— Может, в кабине на дне лежит! От удара вдавило!
— А что, я читал в газете, находили пилотов. Кости, конечно. И кожанку с планшетом. По документам определяли фамилию.
— Аккуратней лопатой! Приборы на доске не разбей!
Фонаря на кабине не было. Нутро было набито спрессованным мерзлым торфом. Дронов смотрел, как лопаты откалывают, отрезают ломти, и испытывал оцепенение. Вот сейчас, с очередным ударом лопаты, он увидит отца. Его недвижную голову, оледенелые глаза, запрокинутый подбородок. Знакомое по малой фотографии лицо, только неживое, неподвижное.
Читать дальше