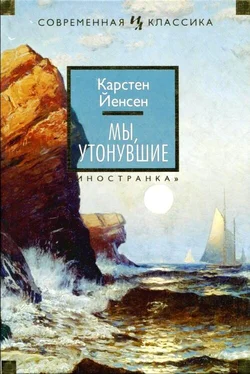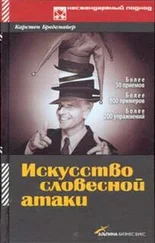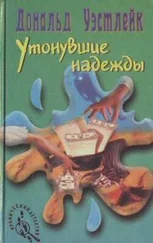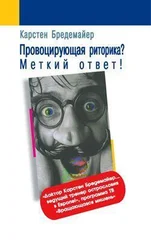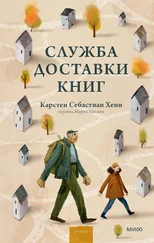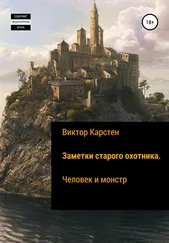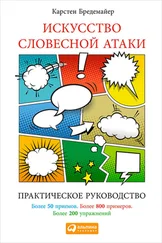Было к чему возвращаться.
Что бы мы сделали, расскажи нам какой чужак о том, что кладбище навеки останется полупустым и совсем немногочисленные надгробия будут свидетельствовать о прожитых здесь жизнях, а посаженная заботливой рукой рябиновая аллея так зарастет травой, что станет похожа на дикую рощу, где лишь тренированный глаз сможет распознать план, по которому мы когда-то все здесь устроили?
Что бы мы сделали, если б какой чужак рассказал нам, что цепь поколений прервется, что настанет день и нас призовут силы более мощные, нежели море?
Мы бы посмеялись над ним, дураком.
* * *
Альберт верил в разум, но не это составляло суть его истинной веры. Он не верил в Бога, не верил в дьявола. Немного верил в человеческую доброту, а что касается зла, то самолично столкнулся с ним в многочисленных походах. Но прежде всего верил в единство. Насколько он знал, верующие не имели никаких доказательств существования Бога. А у него было доказательство того, что вера его имеет солидную реальную основу. Каждое утро он наблюдал это доказательство из слухового окна над маклерской конторой на Принсегаде.
Было его видно и из окна в эркере, внизу, в конторе. Потому он и пристроил этот эркер. И когда Альберт спускался по трем каменным ступенькам и шел направо по Принсегаде в сторону моря, доказательство вновь оказывалось прямо перед его глазами.
Огромный каменный мол — вот что это было такое, мол, который граждане города строили сорок лет. Он возвышался в море, тысяча метров в длину и четыре в высоту, построенный из камней, каждый весом в несколько тонн. Мы оказались умнее египтян: мы строили наши пирамиды — длинные каменные стены — не для того, чтобы сохранить память об умерших, но ради защиты живых. Мол был творением фараоновым, сказал нам как-то Альберт, фараона не с одним лицом, но со многими, и вместе они воплощали единство.
Каждое утро Альберт совершал свое утреннее правило: моряк, он смотрел на небо, на формации облаков, несущие послания искушенному взгляду, а затем созерцал мол, и это наполняло его душу миром. Мол был спокойной силой, превосходящей море, мол мог усмирить шторм и укрыть корабли, он был живым доказательством существования единства. Мы уходим в плавание не оттого, что существует море. Мы уходим в плавание, потому что есть гавань. Главное для нас — не призрачные цели, а твердая почва под ногами.
В церковь он ходил редко. Только по праздникам и по особым случаям. Ходил, потому что церковь тоже была частью единства, и он не хотел оставаться вовне. Особенного уважения к церковным обрядам у него не было. Но в церкви как на корабле. Там действуют определенные правила, мы должны им следовать, когда попадаем на борт. Или держаться подальше.
Сменявшие друг друга священники жаловались, что церковь плохо содержится. Но когда пастор Абильгор, с которым Альберт, кстати, был на дружеской ноге, прямо заявил, что, дабы церковь выглядела должным образом, нужно взять деньги из тех, что шли на школьное образование, Альберт дал ему отповедь. Выбор между школой и церковью, сказал он, всегда будет в пользу школы. Школа — это молодость и будущее. А церковь — нет. Его радовало, что школа на Вестергаде по размеру превосходила церковь. Так и должно быть в городе, где жива вера в будущее.
— Но нравственные законы… — возразил Абильгор. — Где дети им научатся, если не в церкви?
— На борту судна, — лаконично ответил Альберт.
— А может, в зарубежных портах? — не сдавался пастор.
Альберт промолчал.
Он не питал иллюзий относительно морской жизни. Ведь и гарсоном ему довелось побывать, жить без сна и отдыха, как собаке, лишенной положенного собаке питания, — так он сам говорил. Но времена изменились. Условия на борту сделались лучше, гуманнее. Учителя стали лучше, и в должный срок их ученики становились более умелыми шкиперами. Альберт верил в прогресс. Он верил и в морскую честь. В этом коренилось чувство единства. На корабле предательство одного способно вызвать роковые последствия для всех. Этому учат сразу. Пастор называл это нравственными законами. Альберт называл это честью. В церкви ты отвечал перед Богом. На корабле — перед другими. Поэтому корабль был лучшей школой.
Но все сходилось на капитане. Об этом говорил ему опыт. Капитан знал на своем корабле все: каждый парус, каждый элемент такелажа — и каждого человека. Каждому полагалось свое место, и если капитан не прояснял это с самого начала, то экипаж принимал решение сам — в драках, и на дно опускался слабейший, но необязательно худший. Альберт наблюдал это на «Эмме К. Лейтфилд», когда капитан Иглтон пренебрег своим долгом и настоящим хозяином на борту стал О’Коннор. Сильнейший — необязательно лучший. Капитан должен знать душу человеческую так же хорошо, как корабельные снасти.
Читать дальше